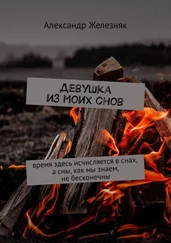Да, чуть-чуть зацепился – «на хвосте перетертого троса» (С. Калугин, «Танец Казановы») – за отечественную словесность, шершаво-заточенный край плаката о выступлении футуристов и обэриутов. Сам, я уверен, ловко чувствовал бы себя где-нибудь посреди самых образованных русских масонов, отчаяннейших повес и бретеров. «Игрок, гость, призрак – вот три последовательно сменяющиеся ремесла, и каждое из них – почти имя» (имя имен, возможно). Может, подвинул бы русское Просвещение, может, одарил бы «Опытами» – или, выпив и сбалагурив, как-то особо ярко и хитро самоубился. Али серьезно занялся бы прожектом философского камня, воскрешения мертвых отцов и растворился бы в эфире, Бог или черт весть.
Это, кстати, его темпоральность – при всем своем футуризме и авангардизме вызывающе старомодная, но мигающая, ускользающая, намекающая на все времена сразу, будто времена размножились, как в самом сложном языке, или пряжей парок бойко играет солнечный котенок. «Я люблю все, что происходит вчера – вплоть до самых жестоких, самых сегодняшних событий. Например, без примеров». Примеров, как предшественников и подражателей, и нет.
Так, кстати, и в этой книге, которая по сути – возможность нескольких книг. Роман «Жизнь прозы» – ведь, вполне возможно, и не роман. А что-то новое, нездешнее, вызывающе иноземное – как французский новый роман, какие-то постсюр-реалистические опыты, что толком переводить начали у нас только сейчас (читал ли все это Казаков? Могла бы сказать его любимая жена Матрешечка, и то, что никто до сих пор не пристанет к ней с диктофоном, очень смертный грех). Он рассыпается из, состоит из – предисловия автора (которое, конечно, только играет и ничего не объясняет: «цель этой работы – работа»), прозы, совсем мини-пьес и любимых драматических разговоров побольше, писем Матрешечке, ее ответов, или не ее, а автором за нее написанных, или не автором, а героем. Казаков посмеивается в несуществующие усы, запахивает эфемерный плащ и ускользает в эфире-окне:
«Он: Я слышу слова и вижу мощный слой ума. А, впрочем, кто знает будущее?
Призрак: Если вы сами – вопрос, то я – сам ответ.
Он: Мне слишком весело. Перед какой тревогой, перед какой судьбой?
Призрак: Перед вашей собственной.
Она /призраку/: Он улыбнулся вдаль… Вот окно. Хотите беззаботно опереться воображением о небо?
Призрак: Охотно, и даже с легкой грустью.
Он: Соперничать с окном в прозрачности?»
Тут урезали менуэт, камеры отплыв, задымление нарочито театральное. И так Казаков весь. Был, есть, но скорее – вроде.
Я выпил чая («чай – это словарь молчания звезд», как в «Ошибке живых») и еще, еще раз убедился, что пытаться даже разбирать письмо Владимира Казакова – что строить модель Версаля под казино в китайском Макао или собирать сломанную детскую игрушку. Его письмо из чайной звездности, галантного бархата, перьев птицы-робота Алконоста и изящностей про острие первой снежинки («какие голубые, детские буквы!»). «Кусок прозы размером с кусок будущего. Вот оно начало: ржавое, дневное, старинное. Я говорю Ире, откликаясь на каждую секунду ее молчания».
Молчание прозы Казакова – другая грань исчезания его биографического. И очень важная, см. иерархию: «мгновения окрашиваются для меня то в цвет ее волос, то в цвет ее глаз, то в молчание». «Виной всему – молчание, с тут и там запекшейся тишиной» – здесь «вина» как первопричина, отсылающая к изначальному Слову, которое было творением, космосом, но не нашими буквицами и шумами. Это молчание – как творческая полнота тех просвещенных, которые все поняли и теперь осуществляют и претворяют (мир) в самих себе. Внутренняя молитва исихастов. Или полнота великой пустоты буддистов – «возникло молчание, не перебиваемое ничем, кроме своих же оттенков». Но, конечно, у Казакова не так тяжеловесно, как я сейчас сравнил, а скорее – как вся радуга, если ее быстро вертеть игрушкой в руках ребенка, станет, сольется в белый цвет, а из него обратно – смогут распуститься все цвета и переливы. «Пауза между двумя молчаниями – в виде надтреснутой горловой тишины, почти не слышной» (музыка не нойза, но молчащих минут и секунд Кейджа). Немного состаренные, как кожа под ботфорты, с патиной ваби-саби.
Поэтому – игра. Случая (хотя, не знаю, как Казаков писал, но тщательнейший, утонченнейший стилизм и известна – хотя бы что-то! – его симпатия к «Школе для дураков») – «словесный поток, направленный умелой рукою случая». И всего. Смех и блеск, кислородно-шампанская лёгкость («…столько детского и столько милого, что поневоле каждая строка окажется слишком тяжелой, а каждый смысл – слишком древним»). И ирония еще до того, как она стала постмодернистской и обязательной, как английский юмор у иных господ. Карнавал – но не телесно-пошлый, как бахтинско-раблезианский утробный смех с отрыжкой-оттяжкой, а как салонная шутка Уайльда в русском мундире.
Читать дальше







![Александр Чанцев - Желтый Ангус [сборник]](/books/429172/aleksandr-chancev-zheltyj-angus-sbornik-thumb.webp)