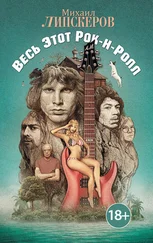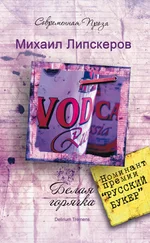«Мишель, батюшка мой срочно увозит меня из Москвы. Тут сейчас неспокойно. С завтрева дня Ваш Император объявит войну Его Императорскому Величию Кайзеру Вильгельму. И как Вы знаете, мы…» И тут письмо оборвалось.
Утром завтрева дня поручик Мишель Мещерский срочно уехал, и вскорости в глупой штыковой атаке его закололи под Брестом…
Сентябрем восемнадцатого года Катрина по настоянию папеньки Ганса Христиановича вышла замуж за графа Отто Штауфенбурга. С коим вскорости разошлась еще до родов.
Июлем сорок первого года ее сына, лейтенанта вермахта Штауфенбурга, закололи в глупой штыковой атаке русских под Брестом. Его одного.
В нагрудном кармане мундира нашли письмо, начинавшееся словами: «Мein lieber Michael!»
Дрожки мягко катились по хрестоматийно-мягкой дорожной пыли. Сквозь ветви корабельных сосен, мечты Петра Первого, пробивались отдельные отчаянные лучи утопающего в уже загнивающем Западе Солнца. А где-то там, пока еще за горизонтом, уже подтягивал ремень на гимнастерке зарождающийся молодой месяц…
Я ехал в поместье отставного корнета Николая Семеновича Забобруйского, дабы попросить у него руки его дочери Антонины Николаевны, вдовы отставного поручика Семена Михайловича Забубенного, по ошибке затравленного на охоте собственными собаками вместо кабана. Дама она была весьма привлекательной, к тому же со средствами, способными поправить дела в моих пошатнувшихся делах. Любовь?.. Не знаю… По-моему – это выдумки праздного ума столичных поэтов и скучный морок для неискушенных душ провинциальных девиц. А я…
И тут из-за поворота на вороном, практически белоснежном, коне выскочила всадница с персиком, обдала меня легким запахом восьмимартовской мимозы и легкой, ничего не значащей, улыбкой слегка поюневшей Моны Лизы (Джоконды)…
И я развернул дрожки…
И вот уже много лет я мчусь за этим легким запахом мимозы и легкой, ничего не значащей, улыбкой…
На хрена, спрашивается…
Если я терпеть не могу персики…
Хочу рассказать о своей дружбе с Владимиром Высоцким, с которым не был знаком, и о своем вкладе в его творчество, благодаря которому (я имею в виду вклад) он стал Владимиром Семеновичем.
В конце пятидесятых Вовка написал свои первые несовершенные стихи. Я понял, что должен помочь ему как художник – художнику. Чтобы быть объективным, стихов я не читал, но жестоко раскритиковал их в газете «Литературный листок». «Нет, господин Высоцкий» называлась рецензия. Меня приняли в Союз писателей.
Когда Володя записал свою первую песню на магнитофонную ленту, я в газете «Культура в жизни» сравнил его с Окуджавой. Что по тем временам приравнивалось к грабежу со взломом. Эта моя дружеская поддержка оставила Володю практически без работы и без куска хлеба. Что необходимо каждому художнику. Ибо сытое брюхо к творенью глухо. Поэтому, и только поэтому, я наступил на горло Володиной песне.
После первого цикла песен я в журнале «Музыка на службе» написал, что музыка Высоцкого не имеет ничего общего с музыкой Баха, Генделя и Гайдна. В доказательство я приводил песню:
Попали мы по недоразумению,
Он за растрату сел, я за – Ксению.
У нас любовь была, мы с ней встречалися,
Она кричала, блядь, сопротивлялася.
«Попробуйте, – писал я, уложить это “блядь” в верхний регистр Домского органа». И я был прав. Никому это не пришло в голову. Тем более что Домский орган был на капремонте.
За эту статью меня приняли в Союз композиторов.
И дальше я делал все, чтобы выковать из Володи художника.
Как вы думаете, за что меня приняли в Союз кинематографистов?.. Правильно. За разгромные статьи на фильмы с Володиным участием. В этих статьях я ввел в обиход клеймо «эстетическая диверсия». И заметьте, чем разгромнее были рецензии, тем лучше он играл. И чем лучше он играл, тем разгромнее были рецензии.
В середине шестидесятых в нашей с ним жизни произошли большие события. На анализе песни «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты» я внес переворот в военное дело. Я доказал, что в борьбе двух социальных систем нейтральной полосы быть не может. Есть только передовой край, который хочет отодвинуть назад «некий Высоцкий». Меня пригласили на чашку чая и присвоили звание «капитана в штатском». Я его вызвал и по-дружески предупредил. Что и помогло подняться ему на новую творческую высоту.
А теперь о Театре на Таганке. Со дня основания в 1964 году я не уставал писать, что это «не наш театр», что «формализьма, экзистенционализьма и эмпириокритицизьма не способны ничего дать советскому зрителю». И результат оказался налицо. Театр на Таганке стал самым популярным, а Володя Высоцкий, которого я в одном из докладов на ЦК назвал «ущербным Гамлетом из Большого Каретного, по которому плачет большой черный пистолет из того же Каретного», стал любимцем театральной Москвы и такого же Парижа.
Читать дальше