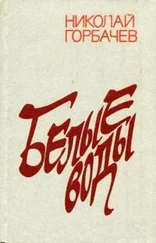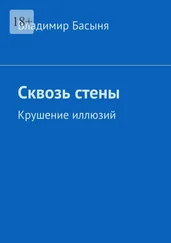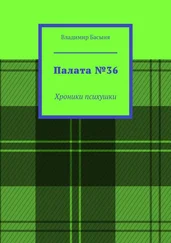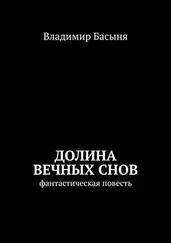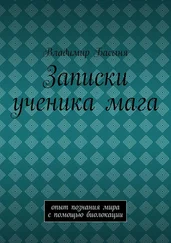– Садись, Саша, выпьем за встречу, – Кашин подвинул к писателю табуретку. Александр сел за грязный стол и окинул взглядом нехитрую закуску: начатую банку кильки в томатном соусе и кусок чёрствого хлеба. «Пусть выговорится», – подумал Верховцев и выпил стопку водки, заев её килькой. Кашин закусывать не стал, а торопливо, словно хватаясь за протянутую утопающему руку, заговорил:
– Саша, ты веришь в реинкарнацию? А я не только верю, но и чувствую это с детства. Родился через полтора месяца после его смерти и всегда знал, что я реинкарнация гениального художника Пабло Пикассо. С ранних лет во мне вызывали трепет испанская и французская речь, звуки фламенко, пейзажи Монмартра, а в моих детских рисунках знатоки узнавали стиль этого гения. Я усердно работал, но твердолобые критики называли мои творения жалким подражанием великому мастеру, поэтому я получал жалкие гроши, едва окупающие расходы на холсты и краски. И я понял, что случись даже второе пришествие Христа, то и его бы, слышишь, не признали за мессию, а назвали бы шарлатаном и жалким подражателем, – Кашин замолчал, налил из бутылки и сразу проглотил содержимое своей стопки. Верховцев только чуть пригубил и поставил на стол, ожидая продолжения исповеди.
– И вот, Саша, я написал картину, искусственно состарил холст и краски, подписался именем Пикассо. Через одного знакомого выставил на аукцион как неизвестную картину гениального мастера. И те, кто хулил меня, обливались слюной от восторга. И тогда я показал всем, кто ничтожества, а кто гений. Даже пить с такими не стал бы. Паршивые лицемеры! Вот пойду, завтра им назло закодируюсь или лучше повешусь и оставлю предсмертную записку: «Пикассо родился и по вашей вине снова умер!»
– Не расстраивайся, Петрович. Непонимание не самая страшная вещь в нашем мире.
– И что страшнее? – Кашин поднял глаза на Верховцева.
– Одиночество, – вздохнул тот.
– Одиночество тоже от непонимания. Иногда мне кажется, что человек приблизился к тому пределу одиночества, за которым кроме него самого в этом мире никого нет, – Кашин налил, не чокаясь, выпил и продолжил: – Вот выговорюсь, через край души чуть выплесну и успокоюсь.
– Петрович, не принимай всё близко к сердцу. На Востоке говорят, что единственная реальность в нашем мире – Высший Человек.
– Бог, что-ли?
– Можно сказать и так. И я предполагаю, что ты – лишь один из пальцев перчаток, надетых на руки Бога.
– А сколько у него рук?
– Ты бы ещё спросил, сколько у него пальцев. Это тайна за семью печатями.
– А я не хочу быть перчаткой. Я что, Петрушка на руке кукловода?
– Не сильно расстраивайся. Считай, что ты рука Бога, исполнитель Высшей Воли.
– Спасибо, а то хоть вешайся.
– А ты представь, что перчатка повесилась. Абсурд…
– Саша, брошу пить. Всё-таки я рука Бога. Хотя нет, по-моему, каждый человек уже Бог. И я тоже. Давай выпьем за это.
– Ну, за это обязательно…
Верховцев шёл на свет, мерцающий вдали. А где свет, там и люди, там жизнь. Вскоре свет превратился в огни незнакомого города. Александр уже различал отдельные здания, как вдруг потерял равновесие: земля начала уходить из-под его ног. «Обрыв! – понял Верховцев и стремительно полетел вниз прямо в чёрную холодную воду. Водоворот неумолимо потащил в глубину. Писатель рванулся вверх и… проснулся. Дверной звонок противно трещал, требуя встать с кровати. Александр вставил ноги в шлёпанцы и нехотя поплёлся в коридор. «Кому с утра неймётся!» – подумал он, подходя к двери. Верховцев щёлкнул замком, приоткрыл дверь и обнаружил на коврике сложенный треугольником листок бумаги. Развернув его, удивлённый писатель прочитал: «Приходи на Патриаршие пруды сегодня в двенадцать к памятнику Грибоедову. Там крылья ангелов трепещут на ветру».
«Чья-то неумная шутка», – сначала подумал Верховцев, но последняя строка записки заставила его вернуться в прошлое. Тогда Верховцев учился в литературном институте и пробовал писать стихи для факультетской стенгазеты. Он вспомнил этот первый поэтический опыт:
Прислушайся, проснувшись поутру:
Там крылья ангелов трепещут на ветру.
Над чистотою белых вод
Прекрасен светлый их полёт.
Этот стихотворный опыт остался у Верховцева оказался первым и последним. Он увлёкся прозой. И вот такая странная записка. Александр ещё раз ей прочёл и начал собираться.
Трамвай-трактир «Аннушка» скучал на закольцованных рельсах в ожидании посетителей. Верховцев прошёл мимо этого раритета булгаковской эпохи и направился к памятнику автору «Горя от ума». Вдоль аллейки кучковались разные неформалы: рокеры, брейкеры, металлисты, рэперы, готы. Александр прошёл мимо них к постаменту и увидел странную картину: неподалёку от памятника какой-то чудак грёб пластиковыми вёслами посуху, сидя в двухместной надувной лодке. Заметив Верховцева, странный человек помахал ему рукой: «Эй, залезай! Уже десять минут тебя жду!» Верховцев оглянулся и понял, что обращаются именно к нему. Александр забрался в лодку и уставился на гребца. Тому было на вид лет двадцать пять. Коричневые новые туфли на толстой подошве, серые с блеском брюки контрастировали с дешёвой зелёной болоньевой курткой на блестящих пуговицах. Карие глаза на круглом лице безусого юнца доброжелательно смотрели на пассажира. «Куда плывём? – Верховцев кивнул на вёсла. «Неправильный вопрос. Зачем плывём? – гребец несколько раз взмахнул вёслами, потом вынул их из уключин и уложил на дно лодки, – Давай знакомиться: Мишаня – ловец человеков».
Читать дальше