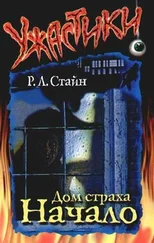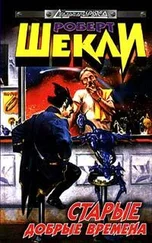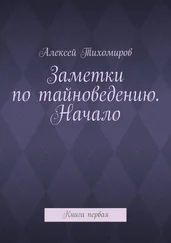Зашел Эпштейн. Помимо сезонного ринита, конъюнктивита, мучений в музыкалке и постоянных унижений от шпаны из соседней школы, он еще и отравился.
– Ребята, В. В. отпустит с факультатива по эволюционной биологии, как думаете? Мне докладывать. Но я не могу больше терпеть.
– Ну, иди в туалет, вытошни, – сказал я. – Или наоборот.
– Ой, ты что?! – смутился Эпштейн, – Я не умею выташнивать самостоятельно, а по большому хожу только дома. Розенберг, ты что, Роберту не рассказывал?
– Нет, блядь, не рассказывал! Извините, пожалуйста! Делать мне нечего, как рассказывать другу, где это Эпштейн может откладывать личинки, а где нет, – сказал Розенберг, листая книгу.
– Ну что ты так кипятишься, ты же меня со старой школы помнишь, думал, может, сказал при случае.
– Эпштейн, внимай по слогам. В моей жизни не бы-ва-ет случаев, когда я вспоминаю о том, как и где ты какаешь.
– Да ну вас! Плохо мне, в общем. Ну что, отпрашиваться? Или дотерпеть? Были бы деньги, я бы «Ессентуков» выпил. Они меня успокаивают.
– Вот! А тем временем, – сказал Розенберг, смотря в книгу, – Векслер, кто бы это ни был, устроил французскую революцию, одна восьмая еврейской крови в Ленине сотворила такое, что смотри – десять лет не могут все его памятники доснести. Евреи построили СССР, потом развалили, подняли Голландию, потом ее обанкротили. Тааак… Британскую империю тоже мы, Великая депрессия, апартеид в ЮАР тоже на нас. И теперь посмотри сюда: вот человек, который не может покакать в школе и мечтает о боржоми.
– Настоящего боржоми сейчас нет, – печально ответил Эпштейн. – И что это ты такое читаешь? Чего от нас хотят… Розенберг, твой национализм довел тебя до стадии отрицания собственного отрицания.
– Нет, блин, он меня довел до того, что я читаю эту книженцию и наполняюсь восторгом. То рушат империи, то строят. Пока ты тут не можешь вытошнить из себя котлетку.
– Она была рыбной, ты понимаешь? Я плохо переношу рыбу, ты же знаешь.
– Да, я как твой психотерапевт и биограф все знаю. А книгу я заберу на время. Динамично, смело, и прям гордость берет за предков.
Настя была рождена, чтобы портить жизнь всем окружающим. В раннем детстве это была самая обычная девочка, но к десяти годам в ней выпестовалась мессианская уверенность в своей глубокой и неотвратимой болезненности. А также – в необходимости поиметь этой проблемой человечество в целом и каждого из ближних в частности.
Настя медленно кончалась без какого-либо диагноза. От сквозняков она кашляла. От духоты ей было дурно. Летом от жары у нее все краснело. Зимой везде мерзло и синело. Осень и весна были промежуточными этапами с миксом симптомов, плюс хандра.
Раннее пробуждение – мушки перед глазами. Позднее – ватная голова. Повышенное атмосферное давление было залогом боли в затылке. Пониженное – в висках. При нормальном атмосферном давлении переходим к пункту «сквозняк». Тишина навеивала тоску и плохие мысли.
Можно было бы посетовать на скверную наследственность, но у Насти никто никогда не умирал скоропостижно со времен революции 1905 года. Даже ее прапрадед после падения Порт-Артура просто уехал в Китай и не вернулся, дабы не шокировать детей сценами агонии.
Тем не менее многое вызывало у Насти плохие воспоминания и ассоциации. Так, все фильмы с азиатами исключались из-за прапрадеда. С немцами – из-за прадеда. Афганцы и вообще Восток напоминали о дяде. Самое странное, что при этом все члены ее многочисленной семьи всегда служили в различных НИИ и редакциях всевозможных газет.
Фильмы про детей вызывали ностальгию по детству. Про взрослых – страх перед будущим. И все это при ней нельзя было не только смотреть, но и обсуждать.
Все бы ничего, но Настя училась с нами в одном классе.
То есть мы прямо вот учились с этой барышней, документы упорно свидетельствовали, что мы – ровесники, но относились мы к ней, как к ветерану русско-турецких войн с половинным набором органов.
Когда мы шумели, у Насти начинало гудеть. Не знаю, где именно, но гудело сильно. Тишина тоже не была выходом, ибо вызывала инферналочку. Розенберг предлагал кому-нибудь из разнузданных и беспринципных людей с ней переспать. Но все, т. е. и я, и Арчил, и сам Розенберг, были вынуждены от этой идеи отказаться. Секс, даже в самом консервативно-пасторальном исполнении, мог сопровождаться и шумом, и тишиной, и сквозняками, и резкими движениями.
– Нет, – подытожил Розенберг. – Это ее убьет.
Читать дальше