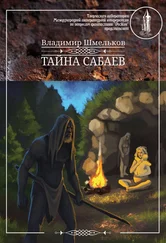А началось это не в девяностые, когда по Москве стали расти как грибы после дождя странные шалманчики, палатки и ломбарды. Не в две тысяча пятом, когда появились все эти дикие вывески, а внутренности домов стали вынимать вместе с их жильцами, запихивая в пустые аквариумы привычных фасадов, какое-то совсем иное содержимое, с которым я не чувствовал ни малейшей связи. Все началось значительно позже с резидентного разрешения на парковку. Да, именно тогда. Не более пяти лет назад.
У меня тогда еще был старенький белый Рено. Парковка на Малой Бронной составляла что-то около двухсот рублей в час, но за квартирой было закреплено бесценное право на бесплатную парковку возле дома. Право это нужно было ежегодно отстаивать, подобно тому, как до недавнего времени доказывали инвалидность, поднимая всевозможные документы вплоть до «Государева родословца» и паспорта кота из ветклиники.
Прусская бюрократия, замешенная на русском мистицизме и революционном футуризме, извергла из себя чудовищные по силе заклинания: МФЦ, БТИ, ГиБбД, ОНИЛ, МГРХ, ТРБ, СНИЛС. Каждая буква – гвоздь, заколачиваемый в остатки здравого смысла. Вначале, когда государство с человеческим лицом, (вернее, той его малой частью, что отвечала за человечность), выделило право на бесплатную парковку, оформление документов занимало всего день, на другой год – два, в последующие – шесть дней. Мать его! Целых гребаных шесть дней! Почти неделю, я ходил как на работу, собирая бесконечные формы, разрешения родственников, и кланялся, бесстрастным теткам в окошках, время от времени извиняясь за забытый паспорт или очередной акт за номером с шестью нулями. Тот, кто сказал, что человечество движется по пути создания искусственного интеллекта, просто не был знаком с российским делопроизводством. Это самый настоящий, бездушный искусственный интеллект. Этакая инфернальная машина, воспроизводящая пароли на текущий день, чтобы возле передовой тебя случайно не грохнули свои же.
Добыв уникальный номер безопасности, доставшийся мне от моей же квартиры, я брел по Большому Палашевскому и размышлял: «Если у объектов собственности прав значительно больше, чем у их владельцев, то нужно загнать машину в лес с наслаждением завалить ее камнями, ломая ногти, закидать лапником. Получится прекрасный холмик, поросший опятами». Кажется тогда, на перекрестке Палашевского и Козихинского я и начал считать. В тот день получилось триста двадцать шагов, триста двадцать спасительных шагов. Тяжелая бессмысленность дня, необъяснимая искусственность событий, мешанина аббревиатур в голове и какие-то плоские фигуры людей на фоне макетов знакомых домов уверенно гнали меня в подъезд, назад к спасительной реальности.
С этой минуты выходя во двор меня, не покидает ощущение, будто к спине пристегнут резиновый канат бейсджампера, что надевают перед прыжком с моста. Чем больше шагов я делаю от дома, тем сильнее тянет назад. Это похоже на невроз, только я не испытываю паники, или беспокойства, наоборот, окружающее на улице пространство перестает вызывать какие либо эмоции. Мне нет до него совершенно никакого дела. Совершенно никакого.
Иду по переулку. Только что закончился дождь. Ранние фонари, раздробленные лужами, тускло отражаются на асфальте синим галогеном. Двести двадцать шагов. В прорехе домов прозрачный полумесяц зацепился рогом за антенну. Двести тридцать. Совершенно никакого дела! Грязное закатное небо в чертовщине черных листьев. Двести тридцать семь. Темный коридор переулка, мерцающие глазки домофонов и сигнализаций. Двести сорок пять. Сбиваю дыхание сигаретой. Уф! Я знаю, за этими стенами живут люди, с которыми не стоит встречаться. Двести пятьдесят. До них мне тоже нет дела. Запомнил ли я кого-нибудь здесь? Двести восемьдесят. Помню, как же, однажды была девушка или женщина, точно не знаю, я видел ее на Большой Бронной только со спины.
Она шла по улице, и на ходу делала записи в тетради, в ее левой половине, высоко, почти на уровень плеча, выкинув согнутую правую руку. Острый локоть двигался на подобии каретки писчей машинки. По движению кисти было заметно, что она рисует, или пишет, постоянно меняя наклон строки, повторяя при этом направления линий головой. Крылья тетради взмывали вверх-вниз, подпрыгивая в такт шагам. Было видно, что она пишет от души, куда-то внутрь себя. Она свернула на Богословский, а я пошел прямо. Больше никого и не помню.
Триста двадцать. Устал. Развалился в кресле. Может быть, все это просто инфантилизм и нежелание принять реальность? Попытка вернуться в детство? Бог его знает, но я угадываю приметы совсем иных времен, бывших до меня, и они мне кажутся более реальными, чем весь этот мир за стеной. Иногда их можно нащупать только кончиками пальцев,– заросший слоями краски старинный шпингалет на оконной раме, затейливое клеймо на кирпиче с забытой фамилией, латунный механический звонок на стене. Все это приметы катастрофы, осколки амфоры на берегу, остатки Атлантиды, я вглядываюсь в черную воду окна и вижу ее проступающие контуры. Что более реально, рассказ старой соседки о детях, возвращающихся через темный двор с горящими лампадками из Спиридоновского храма, будто это было только вчера или массивное здание «Теплобетона» стоящее на месте храма? Я выбираю первое.
Читать дальше