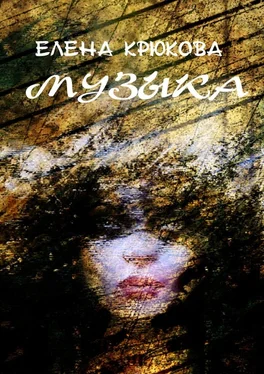Косая Челка высоко, выше головы, подняла красный бокал, приблизила ко рту и выпила одним глотком, до дна, одна.
Усатый Сталин захлопал в ладоши.
– Ай да Люська, ай да сукина дочь! Консерваторочка! Так вот они, смелые пианисты!
– Жалко, рояля тут нет!
– И органа – нет!
– Да тут ничего нет.
– Брось, Янданэ! Тут – жратва есть! Жратва – это ж музыка!
– Да, брат, прав ты. Это – музыка! Давай, дирижируй!
Навалились. Уминали беф-строганов. Ели, как жили. Жадно и быстро. Янданэ остановился, замер над котлетой.
– Ребята! Мы не едим, а жрем. Мы разве не в высшем обществе?
Оглянулись. За столами, накрытыми одинаковыми белыми скатертями, и уже позорно-грязными, уже запачканными, и презренно-нестираными, а все некогда замученному неистовыми приказами персоналу, сидели люди, такие же, как они, и так же быстро, наскоком, дико ели. Лишь один человек ел медленно. Он сидел в дальнем углу, оттягивал локтями скатерть, собирая ее в нежные водяные складки. За столом сидел в пальто. Звать – никто. Неужели его как-то звали? Ему не нужно было имя. Пальто расстегнуто. Пуговицы разные. На локтях заплатки. Медленно человек всаживал вилку в мясо. Медленно, горько подносил ко рту. И жевал так, будто – молился.
Девушка на миг увидала его глаза.
И отвернулась.
Ее руки лежали на скатерти и дрожали. Пальцами она беззвучно играла на столе музыку, которую любила.
– Чертовщина. Янданэ, мы где?
– Югу больше не наливать. Мы в гостинице «Москва», на утреннем шведском столе, сам же нас сюда и затянул, а у меня с собой есть корвалол, могу в бокал накапать, мозги прочищает.
– Уж лучше нашатырь нюхнуть.
– Для тебя специально в кармане заведу.
– Уж лучше ручную белую мышку заведи, ха.
Косая Челка стыдилась своего вечного голода. За столом слыхать было, как у нее громко, зверино урчало в животе.
– Ты ешь. Выпьем потом.
– Я ем, Янданэ.
– Я все смолотил! Наложи мне еще!
– Сам наложи, Юг, не безрукий.
Усач нехотя встал, стулом громко провез по паркету, долго наклонялся над стальными огромными мисками, выбирая. Половник мелькал, еда перетекала из кухонных емкостей на плоские озерные листья тарелок-кувшинок. Усач бухнул об стол поднос, поймал блеск широко расставленных подо лбом озер-глаз Косой Челки, усмешка покривила его тихие тонкие, под усами, губы, он задумчиво спросил, может, сам себя:
– И когда же мы, проглоты, нажремся?
Девушка и монгол смолчали.
Вина оставалось немного. Усач встряхнул бутыль, поднес к глазу, силился рассмотреть на просвет.
– Есть еще.
– Сорок капель?
– Побольше.
Монгол вынул у усатого Сталина бутылку из рук и разлил последнее.
Усач пододвинул по столу ближе, ближе к молчаливой Косой Челке тарелку с антрекотом.
– Кушай, поправляйся. Ножичек рядом! Режь на мелкие кусочки. Будешь вспоминать.
Люська смотрит на Усача, Усач на нее, они оба вспоминают, это нельзя словами, и не нужно, Янданэ смотрит на них, потом опускает узкие щелки косых хитрых глаз в тарелку и уже не поднимает: пусть эти двое побудут за столом одни. Есть мир, его им сейчас не надо. Гляди, девчонка уже смеется! Усачу, или сама себе? Она хохочет просто так. Нипочему. За стеной ресторана, где царит и дымится безумный шведский стол, и сидят за столами нищие люди и богатые рядом, тесно-близко, и рядом, послушно и жадно, едят, и рядом слушают слабый, призрачный бой курантов за широким и грязным окном, – так же рядом, руку протяни, за высокими мутными стеклами и мощной кладкой старинного кирпича, идут люди; они идут всегда, идут и сегодня; лица, лица, лица, колышутся в мареве странного позднего осеннего дня, еще сухие листья на ветвях, а уже снег, ноябрь теперь или март, никто не знает, нет времени; ушанки, кепки, убитые норки, мертвые песцы на головах, на беспечных затылках, вон тот придет домой и повесится, завтра ведь нечего есть, брусчатка площади ложится под танцующие ноги, дырявые перчатки и голые руки, сапоги и опорки, телячья кожа и свиная щетина, бархат и мешковина, лица мелькают превыше одежд, лица молча поют, лица летят, они беззвучны, но их можно услышать. Если встать и замереть. Выйти на крыльцо ресторана. Слушать ветер. Люди бегут мимо. Ты доешь свою еду, наденешь еще теплое, родное пальто, выйдешь на ветер и тоже побежишь. Мимо.
Опять бьют куранты. Кремль бросает людям, как птицам, хлебные, нет, ледяные, хрустальные крошки незабвенной музыки. Ключ повернули в красной кирпичной шкатулке. Про что играет столичная музыка? Про новую нищую революцию? Про новые богатые пиры?
Читать дальше