А сперва только слайды. Только вспышки в темноте, отдельные слайдики, сугробы, сосны, не растоптанный и даже не грязный, но разъезженный грузовиками снег на какой-то окраине, Яс в великолепной дубленке, еще бы, потом в костюме, великолепном не менее, какой-то его знакомый в длинной и черной блузе, с длинной острой, тоже черной бородкой, к которому (где-то и почему-то; но почему и где?) мы зашли, который (как и Яс) оказался собирателем старинных вещей, показывал ему (заодно уж и мне) то ли японские, то ли китайские (тоже длинные, хотя и не черные), должно быть драгоценные, свитки… все кружится, все путается, не уверен даже, что это вообще было, и если было, то когда это было?.. и да, действительно, слайды, из (какого? провалилось все) аппаратика спроецированные на белый, большой, киношно-полотняный экран, и на них те картины, которые мне предстояло потом смотреть всю жизнь, в разных музеях и в разных городах мира; и я не знаю по-прежнему, было ли это во дворце (действительно, прости господи) пионеров, или это было на каких-то подготовительных (прости и это, господи) курсах для прыщавых старшеклассников, судорожно пытающихся выбрать, куда им поступать (важнейшее слово в том возрасте, в ту эпоху), чуть ли не в старом университете на Моховой, или все же в новом университете на Воробьевых (тогда, конечно, Ленинских, вот этого Господь уж точно не простит мне) горах, – на каких-то, во всяком случаях, курсах и лекциях, где я садился подальше, повыше (ага, это был амфитеатр? да, теперь мне так кажется, так вспоминается: это был какой-то где-то амфитеатр) и оттуда, сверху, наблюдал за Яков Семенычем, время от времени, когда ему нужно было переменить картинку, необыкновенным, благородно-сдержанным, скромно-княжеским жестом, являя мне и миру свои невероятные запонки, заодно покоряя, мне думается, сердца всех находившихся в этом амфитеатре, уже, впрочем, и так очарованных им девиц, – за Яков, еще раз, Семенычем, время от времени взмахивавшим белой аккуратной рукою с вытянутым вперед, как у Микеланджело или у Караваджо, указательным пальцем, в сторону стертого забвением помощника, занятого уходом за аппаратиком, после чего аппаратик щелкал, амфитеатр темнел, потом появлялся на экране автопортрет старого Рембрандта (перед которым много лет спустя мы стояли с ним в Амстердаме), появлялся географ Вермеера (перед которым стояли во Франкфурте), появлялись, до Рембрандта, до Вермеера, тот же ван Эйк, тот же Рогир, о которых Яс говорил так, как будто с ними был знаком, даже дружен, расстался позавчера, должен был снова встретиться послезавтра, при том что (говорил он) наши сведения о них обо всех столь скудны, что, считайте, их почти и нет, этих сведений, ну вот разве только известно, что ван Эйк служил бургундскому герцогу, а Рогир был городским живописцем Брюсселя, но много ли это дает нам для понимания их работ? Ван Эйк столетиями считался изобретателем масляной живописи; это не так, но, судя по всему, он ее усовершенствовал и улучшил; а вот был ли у него старший брат Губерт, об этом споры идут до сих пор. Большинство исследователей полагают, что был, хотя есть и такие, которые полагают, что не было никакого старшего брата Губерта. И точно так же мы не можем сказать с уверенностью, был ли Рогир ван дер Вейден учеником Робера Кампена, и даже если он был учеником Робера Кампена, то все равно остается неясным, был ли этот Робер Кампен тем самым художником, которого еще недавно было принято называть Флемальским мастером, или он был кем-то другим, и если кем-то другим, то кем, вот вопрос. В общем, вопросы, вопросы и вопросы, провозглашал Яс на радость всем старшеклассникам, всем первокурсницам (если были там первокурсницы); одни вопросы и ничего, кроме вопросов; никакой уверенности и никаких окончательных истин.
Это было, в сущности, так, как если бы он взял меня за руку (своей белой аккуратной рукой – не маленькой, но казавшейся маленькой из-за белизны, аккуратности, какой-то внутренней собранности; это была его собранность, но в руке она тоже выражалась и сказывалась, даже если пальцы были вытянуты, ладонь раскрыта) – взял меня за мою еще полудетскую руку своей всегда собранной (даже при вытянутых пальцах и раскрытой ладони) взрослой рукою – и отвел в какое-то совсем другое место, другую страну (назовем ее Бургундским герцогством, или назовем ее Фландрией, или назовем ее как угодно), бесконечно далекую от Ленинских (прости господи) гор, и даже не просто далекую от Ленинских (прости господи) гор, но расположенную в другом мире, на другой карте. Эту карту я понемногу учился читать, по этой карте учился передвигаться. Часто ли думал я до моих шестнадцати лет о пятнадцатом веке? Я ни разу, наверное, до моих шестнадцати лет не имел случая подумать о пятнадцатом веке. А это был век исключительный, ключевой, поворотный, рассказывал Яс старшеклассницам, первокурсницам; этот век начался открытием перспективы и закончился открытием Америки – до которой (то есть Америки) нам сейчас дела нет, а вот перспектива – что значит: перспектива? Яс прекрасно умел держать паузу; он иногда так долго держал ее, что первокурсницы, старшеклассники (в особенности эти последние) уже начинали ерзать в задних рядах амфитеатра (да, это был амфитеатр, Жижи, теперь я уверен, я только не могу вспомнить по-прежнему, где это было, что это было), но Яс ни малейшего внимания не обращал на их ерзание, как если бы это ерзание, пересмешки и перегляды были частью программы, доставлявшей ему отдельное удовольствие; перспектива (провозглашал он наконец) это значит: художник показывает нам фрагмент зримого, соразмерного человеку мира, заключенный в раму картины; это значит: картина становится окном, через которое мы смотрим в пространство, по знаменитому определению Леона Батиста Альберти, великого итальянского гуманиста (запишите имя в тетрадку). Перспектива у фламандцев, следует признать, не столь безупречна, как у открывших ее флорентийских художников (у Мазаччо, у Брунеллески), но это уже она, родимая (старшеклассники гоготали); уже окно для нашего ока; а что есть важнейшее свойство окна? Важнейшее свойство окна есть его прозрачность (торжественно объявлял Яс), если, конечно, мама не забыла помыть раму как следует (первокурсницы заходились от хохота). Мама мыла раму и помыла ее самым надлежащим образом, так что и пылинки на ней не осталось. Поверхность картины становится словно несуществующей; существует лишь мир, увиденный сквозь нее. Конечно, художник не всегда рисует то, что он видит, скорее лишь в исключительных случаях рисует то, что он видит, как это делали, например, да и то не всегда, импрессионисты с их пылкой любовью к пленэру, которая сама по себе стала возможна лишь благодаря – чему? кто знает? (перебивал себя Яс, предполагая, очевидно, что никто не знает; никто и не знал). Благодаря изобретению тюбика, так-то! Потому что не было у них раньше тюбиков, вот в чем все дело; первый металлический тюбик с краской был запатентован американским художником Джоном Гоффом Рэндом (имя можете не записывать; я ничего, кажется, не записывал, а имя запомнил – как мы запоминаем в шестнадцать лет случайные, иногда совершенно не нужные нам вещи и помним их потом всю целую долгую жизнь, а важных вещей не помним, а навести порядок в своем прошлом и в своих мыслях не можем, как ни стараемся…) – был, еще раз, запатентован Джоном Гоффом Рэндом, американским художником-портретистом, лишь в 1841 году; а без тюбика какой пленэр? (торжественно спрашивал Яс у гогочущих старшеклассников, которым в самом слове «тюбик» слышалось, похоже, что-то очаровательно неприличное); до изобретения тюбиков краски, случалось, перевозили в свином мочевом пузыре, а это, согласитесь, не слишком удобно, если хочешь ими воспользоваться где-нибудь на лужайке; тут уж счастью старшеклассников не было никаких границ, ни малейшего удержу.
Читать дальше
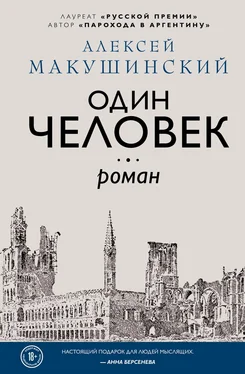




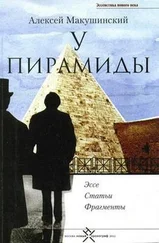

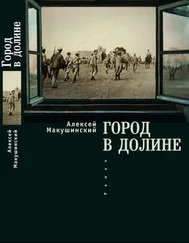
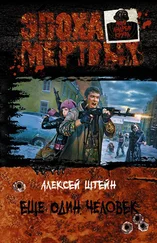
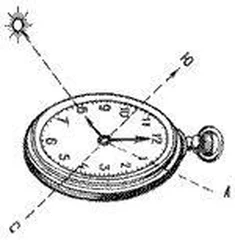
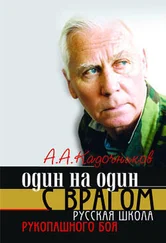
![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)
