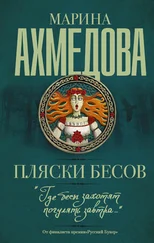– Джамиля, ты почему плачешь? У тебя что-то болит? – спрашивала она.
– Упадешь, Марьям, – отвечала я.
– Джамиля, посмотри, да, в окно. Подойди, да.
– Я не хочу.
– Подойди, – настойчиво повторяла она.
Нехотя я встала и подошла к окну. Выглянула, щурясь на дневное солнце.
– Смотри, – держась рукой крепко за подоконник, Марьям повернулась и показала пальцем на радугу.
Она росла из груди девушки-горы и, перегнувшись дугой, падала вторым концом в мягкий лиственный лес. Он рос на краю длинной горы. А лес бежал дальше, перекидывался на следующую гору и кучерявился темно-зеленым на ее нежно-травяном ковре.
– Папа сказал, под концами радуги появляется золото! Я побегу сейчас, найду золото для тебя, – тараторила маленькая Марьям. – Сделаешь себе сережки и браслеты.
– Зачем мне сережки и браслеты? – спросила я.
– Будешь еще красивее. – Марьям с детской преданностью посмотрела мне в глаза.
– Разве я красивая? – усмехнулась я.
– Ты самая красивая в нашем селе. Когда я вырасту, я буду учительницей, как ты. Папа говорит, ты самая умная из всех, кого он учил. Я хочу быть как ты, Джамиля.
Придерживая Марьям за руку, я помогла ей спуститься.
Марьям вернулась, когда солнце собиралось садиться. Оно заталкивало свои лучи в складки гор, словно скряга припрятывая золотые сокровища. В такой час трава на длинной горе светлеет, а из леса поднимается золотая дымка. Марьям громко плакала, стоя на дороге.
– Марьям! – позвала я из окна. – Ты почему плачешь?
– Джамиля, я добежала до речки, радуга в нее зашла, а из-под воды я же не могу золото достать!
Мать, жарившая халву на чугунной сковороде, громко рассмеялась, услышав Марьям.
– Стой там! – крикнула я. – Сейчас я к тебе приду.
Я зашла в свою комнату, открыла деревянную шкатулку, стоявшую на столе. Нашла в ней бусину из золотого песка, оставшуюся от старых бус. Спустилась по лестнице. Марьям ждала меня. Солнце сразу забралось в бусину, в каждую золотую песчинку в ней, стоило мне открыть ладонь. Марьям ахнула.
– Это что, мне? – Она приложила пухлую руку к груди.
– Конечно тебе.
– Я сделаю из нее браслет. – Пальцы Марьям клюнули мою ладонь.
Весело смеясь, она побежала к своему дому. Подняв голову, я увидела, что на меня из окна смотрит мать, держа в руке большую плоскую ложку с остывающей халвой.
Я устроилась работать в школу. Мне хотелось, чтобы у меня училась Марьям, но мне передали второй класс учительницы, которая в том году ушла на пенсию. Через десять лет моим учеником станет сын Шарипа-учителя, Ильяс. Камень уже разбил ему лицо, и я, как могла, старалась защитить его от насмешек. Но прозвище Кривой все равно прилипло к его имени. На одном уроке Ильяс не выдержал и расплакался. Он плакал так искренне, что я сама чуть не разрыдалась вместе с ним. Ильяс выскочил за дверь во время урока, побежал по коридору. В класс он вернулся вместе с сестрой, десятиклассницей Марьям. Она молча по очереди отвесила каждому мальчику звонкую пощечину.
– С этих пор, – сказала Марьям, – я буду выкручивать руки и ноги тому, кто посмеет обзывать моего брата.
Больше никто не осмеливался доводить Ильяса до слез. Но конец издевательствам положил мой одноклассник Расул Борода, который тогда еще не был Бородой, жил в селе, а в лес ходил только за хворостом и черемшой.
Шарип-учитель был моим классным руководителем, когда я сама еще училась в школе. О, что это были за времена! Благословенные Аллахом времена! Тогда уважали учителя. Сельчане, приводя детей в школу, говорили учителю: «Бей его. Не жалей. Бей хорошенько. Только человека из него воспитай». Иногда учителя так били мальчиков, что я зажимала уши, чтобы не слышать, как затрещина звенит на весь класс, как указка со свистом опускается на спину провинившегося. На перемене побитые ученики подходили к учителю: «Учитель, только отцу моему не говори». Они знали, что дома их побьют в три раза сильней, если учитель встретит на дороге отца и пожалуется на поведение сына. Но только Шарип-учитель своих учеников никогда не бил. Он просто вставал напротив и долго смотрел в глаза. Аллах, что за глаза у этого человека! Один раз я не выучила урок, и Шарип-учитель посмотрел на меня с таким сожалением, что у меня все внутри перевернулось. Даже спина у Шарипа-учителя – говорящая. По ней, пока он писал на доске, мы определяли, доволен он нами или нет. Честно сказать, других учителей ученики любили больше. Когда учитель ударял тебя указкой, ты знал: всё, его недовольство закончилось, из-за одной и той же провинности он не поднимет руку во второй раз. А встретив отца на дороге, ничего не скажет: провинившийся уже наказан. Только с Шарипом-учителем все было не так: он не жаловался на учеников родителям, но даже через несколько дней ученик помнил о своей вине и Шарип-учитель тоже помнил.
Читать дальше