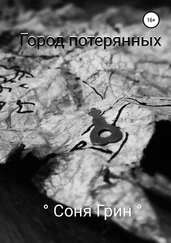А оно, это хреново, никак не уменьшается. И чем дальше, тем хреновей. В общем, не задался как-то день. И вот ты с этим своим хреново возвращаешься домой. К князю… или царю там. И, значит, встаёшь ты перед ним, а он тебя спрашивает, вроде: «Ну как?». А ты что? Ну не скажешь «Хреново». Не поймёт: это князь всё же, человек просвещённый, начальник к тому же. Вот ты и начинаешь: «Великий княже; не вели казнить, вели слово молвить…» и дальше по всему этикету. Говоришь ты, как положено с начальником, то есть – многословно и малоосмысленно, а сам думаешь: «Вот сейчас закончу, и сразу – голову на плаху… а чего тянуть-то?». И всё он давно уже понял… князь, начальник твой, то есть. И ты уже давно понял, что он понял. И бояре вокруг поняли, что ты понял, что он понял. Даже Антип, скоморох-балбес, и тот начал смекать, что все всё поняли. Но, молчат, слушают – церемониал. А нет бы: «Хреново», голову на плаху, хрясь, и дело с концом.
И начальник твой, князь, то есть, брови насупил и кивает: мол, сам знаешь, что дальше. Ну, знаешь, естественно. Как ни знать, если даже Антип знает.
И за что? Тебе и так-то хреново. За то, что принёс это «хреново», а не «наши победили»? Ну, не ты же стяг сбросил и воеводу загубил… тьфу, зарубил. Нет бы, чарку предложил, а то и вместе хлопнули… чай, не чужие люди. А он – на плаху. А это больно, между прочим!
Мммм… к чему это всё? А, да… в общем, не за что было на него злиться. На доктора. А я злился. Стыдно.
А она была больна. Плохо… нехорошо, отвратительно больна. Лучше бы и не звонили.
Телефон снова завибрировал. СМС. Не обманул врач. Лекарство! Было лекарство! Она спасена!
Окрылённый этим, я бесшумно бросился собираться.
Насколько тихо можно собираться, когда единственный, кто тебя любит, забылся сном от тяжёлой болезни в соседней комнате, а тебе недалеко за тридцать? Чуть тише, чем если ты вытаскиваешь конфеты из шкафчика, стоя напротив открытой двери в родительскую спальню… и тебе недалеко до пяти.
Уже у самой двери я опомнился и осознал одну страшную вещь, просто ужасную, немыслимую вещь: а что, если она проснётся? В смысле проснётся, а меня не будет рядом. Ни в комнате, ни в квартире… вообще. Что? Что она подумает тогда? Что я её предал? Бросил? Абсурд. И всё же… и всё же лекарство – вот, что сейчас было по-настоящему важно!
Шелест ключа в скважине не разбудил её. Я точно знал – прислушивался около минуты, прильнув ухом к холодному стальному полотну двери. А потом бросился вниз, перепрыгивая через ступени, перемахивая целые пролёты. Ещё было время, она ещё поспит. А когда она проснётся, то я уже вернусь домой. Вернусь с лекарством.
Скучный тихий колодец двора. Пёстрая, сверкающая гирляндами улица. Что они празднуют? Как они могут праздновать, когда она больна? Тротуары гудят роями прохожих – к дороге не пробиться. А на дороге… боже… рычат, изредка ругаясь друг на друга автомобили. Сплошной… нет, не поток – какой поток, если никто никуда не движется. Поймать такси – немыслимо. И откуда они все взялись? В центре города. Под вечер. Тридцать первого декабря…
– Внучок, подсоби…
Это он мне? Это я «внучок»? И что за «подсоби»? Что за вычурный, странный, неуместный архаизм? Да ещё и посреди культурной столицы.
Красная шапка. Красная шуба. Красный нос. Почему нос красный? Совсем не холодно… тепло почти даже: снега нет совсем. Да и где вы видели снег в Петербурге в канун нового года?
Только спустя почти минуту до меня стало доходить, что Дед Мороз стоит напротив и, хитро прищурившись, по-прежнему ждёт от меня какой-то… подсобимощи?
– Я спешу, – говорю.
А сам шагаю к нему.
– Тороплюсь очень, понимаете?
И помогаю закинуть тяжеленный мешок в багажник древней «копейки».
– Времени совсем нет.
Закрываю багажник.
– Так это – дело поправимое, – добродушно отвечает Дед, хлопает красными рукавицами и пинает валенком заднюю дверь.
Дверца, устало скрипя, открылась. Дед стоял рядом, жестом баяниста с широчайшей душой приглашая меня в салон. А я смотрел на его красный нос, блестящие глазки, вдыхал идущий от бороды запах первача и понимал: Дед-то не настоящий.
Ох уж эта проклятая сливовая, сколько детских надежд она поломала. Помню как сейчас: тридцать первое, недалеко за пять вечера, только слез с табуретки, отчеканив стишок – всё как полагается: белочки, зайчики, ёлка, – встал напротив Деда. Он мне говорит что-то, а я не слышу. Чую только: сливовая. Точь-в-точь, как дядя Боря с маминой работы пьёт. Ну да и бог бы с ней, я же всё могу понять: что, Дедушка – не человек, что ли? Работа тяжёлая, нервная. Из помощников только белочки да зайчики. В общем, Дедушке всё простить можно. Если бы… каждый ребёнок в нашем дворе знает, что дядя Боря сливовую пьёт «для сугреву». И я знал. А при чём тут Дед? Для какого «сугреву»? Он же – Мороз!
Читать дальше
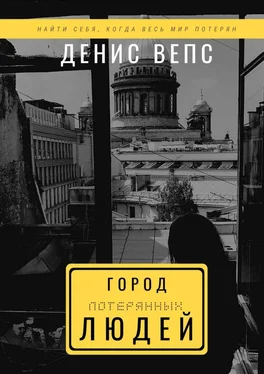
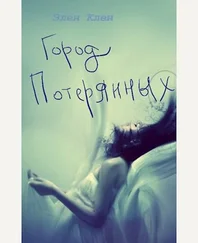

![Кассандра Клэр - Город потерянных душ [любительский перевод]](/books/206722/kassandra-kler-gorod-poteryannyh-dush-lyubitelskij-thumb.webp)

![Соня Грин - Город потерянных [litres самиздат]](/books/436901/sonya-grin-gorod-poteryannyh-litres-samizdat-thumb.webp)