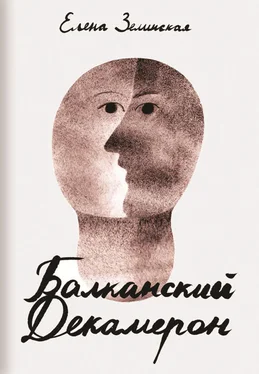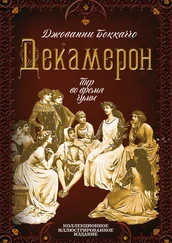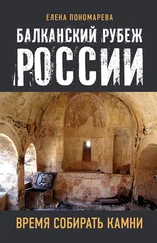– Как сейчас в Москве?
– Самое главное – это впечатление абсурда. С одной стороны – невероятно бурная культурная жизнь: новые спектакли, невероятный Щукин в музее, книги, лекции… А с другой, и в то же самое время, – автозаки, дубинки по голове…
– Слушай, – вдруг оживляюсь я, – так это готовый фантастический рассказ. Представь: модная галерея, какой-то современный художник. На стенках типа инсталляции из проволоки и бутылок. Просторный зал набит народом. Все эти типажи – типа мизинчик в сторону, все такие гламурные.
– Легко, – Ася слушает, чуть щурясь на солнце.
– Итак. Стоят трое, типа обмениваются мнениями: «А вам не кажется, что эта линия за последний год приняла у художника…» – ну, как там… черт, ну, пусть «квазиэкзистианальный характер…»
И вдруг – хлобысь! – а одного из них нет. Оставшиеся двое на секунду задерживают дыхание. И дама в лиловом продолжает в чуть убыстренном темпе: «но обратите внимание на особую подвижность манеры…»
Камера выхватывает другую группу, – что-то я неожиданно перешла на сценарий, – они добросовестно рассматривают картины: «Вот, посмотри, – говорит один, – видишь, как элегантно свернута проволока в правом углу…»
Хлобысь! – и картины нет. Только пустое место.
Они на секунду замирают. «А не изволите ли канапе», – говорит официант, протягивая им поднос с креветками, изящно наколотыми тонкой палочкой на ровный квадратик сыра…
А вот и третья группа. В центре сам герой вечера. Он пьет шампанское и принимает поздравления. Все в восторге. Успех. Вдруг – хлобысь! – и на нем нет штанов.
Он нервно сглатывает и быстро опускает руку с бокалом, чтобы прикрыть причинное место. Но стекло его только увеличивает, словно показывая им всем, как называется то, что с ними на самом деле происходит.
Ася хохочет.
– Вот, – говорит она. – Это и есть новелла! Тут тебе и мистика, и действие. Не хватает только неожиданной концовки.
– Изволь!
…И конобар меланхолично убирает с пустого столика два недопитых бокала – с аперолем и апельсиновым соком.
– Опять эти русские куда-то исчезли!..
Что бы я изменила, если бы мне предложили начать жизнь сначала? Мне предложили. И оказалось, что изменить ничего не возможно. Жизнь вырастает из тебя, такого, как ты есть, сколько раз не бросай зерна.
Пять лет назад я начала жизнь с чистого листа. Пейзаж за окном и чужие люди вокруг – это еще такая малость, которую легко разбавить природным любопытством. Все, что ты знал и умел, все мелкие лесенки и переходы, да и сам фундамент твоего существования, вдруг распадается и как бы меняет места, – то есть твоя привычная картина мира становится похожей на портрет работы Пабло Пикассо: все смещено, и из хаоса линий вдруг возникает смутный, еще не угадываемый тобой образ новой жизни.
Распадается не только пространство, но и время. Ровный поток, который нес тебя от детства через совершеннолетие в зрелость, превращается в коробку с детскими кубиками. Вот на этом кубике тебе четыре годика, и ты учишься говорить, старательно выговаривая три звука «ч». А на этом кубике тебе семнадцать, и ты только озираешься по сторонам, глядя, как живут взрослые в мире, куда тебя только пустили. Кубик выкатывается откуда-то из 90-х, и я снова учу черноглазых учеников русской грамматике. А вот ближе, – моя первая короткая юбка, сшитая из шерстяного платка с бахромой, – я иду по набережной в платье, которое едва прикрывает купальник, как когда-то шла по длинному коридору Двенадцати Коллегий. Недобровольное возвращение в молодость, – я снова ничего не умею, некуда приткнуть образование и надо заново осваивать свое место в мире.
Я потом расскажу про первые два года, которые, как говорят эмигранты, вынь да положь, я сейчас про другое.
И вдруг обнаруживаешь, что из этого нагромождения снова выстраивается твоя жизнь. Разбросанные эмиграцией, как взрывом, кусочки твоей идентичности, словно притянутые каким-то гигантским магнитом, собираются в единое целое – и перед тобою опять ты. Ничего нового. Только платья стали легче и светлее.
Мне казалось, что я это уже умею: начинать заново. Малую эмиграцию я пережила, уехав из Петербурга в Москву, – вырванная с корнем из города, от которого не оторваться, втянутая могучим пылесосом московских страстей.
Тогда это тоже случилось вмиг: один телефонный звонок. Это выглядело так, как будто мне, актрисе городского театра, вдруг позвонил Роман Полански и пригласил в Голливуд. Да что там Полански! Слава человека, назовем его А.М., который вежливо спрашивал, не соглашусь ли я быть его партнером, затмевала тогда любой Голливуд. Он называл Петербург провинцией и носил не снимая черные очки, кожаную куртку с поднятым воротником и шапочку, опущенную до бровей. Но все равно с ним невозможно было пройти по улицам, спокойно поболтать в ресторане или просто сесть в поезд: что там девушки, – взрослые мужчины пробивались сквозь толпу вокруг него и робко протягивали руку, – только дотронуться до рукава. Даже нельзя было назвать его просто телезвездой: он был символом перемен, его считали самым красивым мужчиной на российском ТВ, и его голос вся страна слушала каждый день после программы «Время».
Читать дальше