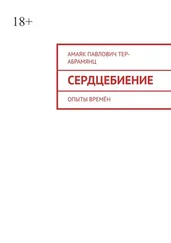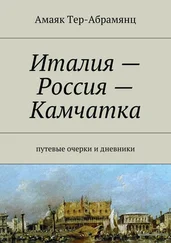– Мам, а мам, – говорил он тогда, – а зачем папка пьёт?
– Водка, водка проклятая всему виной, – вздыхала Полина Ивановна.
– А хочешь, когда я вырасту и стану сильнее, я его так побью, что он больше к ней не притронется?
– Бог с тобой! – испуганно отмахивалась Полина Ивановна. – Битого-то за что бить? Жизнь у него тяжёлая была – ни отца, ни матери…
– А почему? Их беляки убили?
Губы Полины Ивановны вдруг плотно сжимались, взгляд уходил в сторону.
– Больно рано тебе ещё знать, – наконец вздыхала она, – придёт времячко – расскажу…
«Значит беляки! – думал он. – Просто больно ей досказать!» – и кулачки сжимались в ненависти к «проклятому царизму», только от которого, как объясняла учительница, и оставалось, и тянулось всё негодное и горькое в жизни.
И мнилось ему не раз: летел на коне в атаку с шашкой наголо его геройский дед – ну точь-в-точь Чапаев в фильме, а бабушка, в белом халате с красным крестом на сумке, раны перевязывала ему… А потом их вместе ведут на расстрел эти пузатые, лощёные, в золоте, буржуины… А дед перед ними как развернётся, как крикнет, руку в кулаке вскинув: «Да здравствует Мировая Революция!..» – и он впивался в подушку, чтобы не слышать страшного залпа.
Отец, однако, не буянил, не дрался, как иные соседи пьяницы, а валился с ног и спал несколько суток, пробуждаясь лишь для того, чтобы сбегать в ближайший магазин за водкой. А после протрезвления на него напускалась жена, но он сносил её упрёки спокойно, словно шелест ветра, а в глазах снова появлялась неотступная дума.
Однажды, как раз накануне войны, ещё не вполне очнувшись после такого запоя, он вдруг остановил сына, схватив за рукав.
«Слушай, Вовка! Слушай внимательно и запоминай! Не было на земле никогда Правды, нет нигде и никогда не будет!»
– Да что ты мелешь такое, чему учишь дитя-то?! – напустилась на него жена. – Ум свой совсем пропил, видать! – но он будто не слышал, а также упорно и пытливо смотрел на сына.
– Да отпусти ж ты его! – наконец замахнулась Полина Ивановна полотенцем, которым вытирала тарелки, и тогда отец отпустил его, пошарил карманах брезентовых штанин и вытащил оттуда какой-то болт – «На!»… Потом Володя долго носил его с собой и хвастался перед сверстниками, что это главный болт на корабле – отверни его – и корабль рассыплется!
Но горе утери отца почувствовал через горе матери, почувствовал так остро, что из весёлого, беззаботного мальчишки стал замкнутым, сосредоточенным, другим: тогда он дал себе клятву стать моряком, как его отец, и отомстить фашистам, и ненависть к врагу становилась священной… Эта ненависть странным образом собирала его в единое целое, понуждала аккуратно учиться, помогать матери, которая работала прачкой и уборщицей в эвакогоспитале.
Потом было возвращение в разбитый, разрушенный Псков, по сравнению с которым оставленный приволжский городок казался раем земным. Тяжёлая работа матери на стройке, и уборщицей в госпитале. А он упрямо учился, чтобы поступить в морское училище. Город медленно восстанавливался, расчищался.
Дважды он бросал вместе с другими подростками обломки кирпичей в колонны немецких военнопленных, возвращающихся с работ. Второй раз его поймал милиционер и привёл домой. Его заперли в комнате, и о чём-то милиционер с матерью говорил, и он с тайным ликованием услышал, что какой-то из кирпичей повредил голову какому-то немцу. Потом мать говорила с ним долго, чтобы он такого не повторял, а он слушал нахмурившись, сжав зубы. «Они тоже люди, – вздыхая, говорила мать, – их Гитлер воевать заставил». «Они не люди! – яростно выкрикнул он, – они нашего папку убили!» «Пусть лучше города восстановят, которые разрушили», – увещевала Полина Ивановна сына. «Мы и без них восстановим!» – огрызался впервые матери Володя. Месть кровавая для него была несравненно важнее и слаще. И только одно подействовало: «Если будешь и дальше так себя вести, ни в какое училище не возьмут, а сядешь в тюрьму вместе со своими дружками, а они туда точно сядут!»
Потом поступление в военно-морское училище в Ленинграде, офицерский кортик – и назначение сюда. Да, здесь и погиб его отец, простой моторист минного тральщика, в 41-ом, у мыса Юминда во время перехода флота из Таллина в Ленинград. И мины до сих пор ещё находили в этих водах. Об одном он сильнее всего жалел тогда, что война слишком быстро закончилась и не успел он отомстить фашистам – только те два кирпича, летящие в колонну, и остались его личным вкладом в Великую Отечественную.
Читать дальше