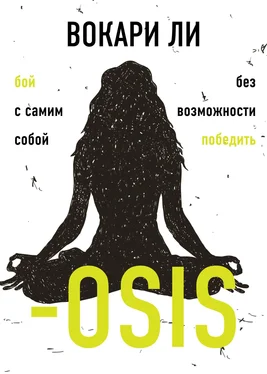С каждым днём одноклассники всё больше злились: что-то внутри говорило им о надвигающейся катастрофе. Однако никто из них не предпринимал активных действий, ограничиваясь хихиканьем и пустотой слов, которые рассеивались уже в момент своего зарождения.
Им приходилось наблюдать за порабощением со стороны. С определённого момента, который был безответственно упущен, их власть над творением истории была безвозвратно утеряна.
С негласной диктатурой вынужденно смирились и учителя. В их снисходительном тоне появилась опасливость и беспокойство – девочка смотрела на сменяющихся один за другим людей с нечитаемым выражением лица. Постепенно все вовсе перестали её понимать: плоскость её существования – или многомерное пространство – выталкивала из себя сторонних наблюдателей. Самым смышлёным казалось, что она давно умерла: в детских глазах не плескалась жизнь. Казалось смышлёным, а живой не воспринимали все – дети учились у взрослых с первых шагов.
Так и родилась «странная девочка, которая рано умерла».
Стоило девочке лишь однажды ослабить оборону, упустить момент, заковырявшись в вылезших петлях своего сарафана, как длинные пальцы одноклассника с пугающе гладкими и большими ногтями выхватили тетрадь, полную маковых булок, коленей, комаров и едва проросшей моркови, стали бегать по ней в по-звериному быстром темпе, приказывая тонким губам зачитывать ломанные буквы вслух. Поток речи сотрясал стены смутившегося кабинета. Отражённый от них свет лампы перестал казаться тягостным – сквозь его застывшее хладнокровие проклюнулись поляны зацветающих вьюнков. Мальчик продолжал читать, ухмыляясь обнищавшим ртом, но голос его с каждой строкой замедлялся; буквы отрывались друг от друга с нарастающим рвением и затихали, впитываясь в отошедшие плинтусные панели.
Он, схватившись за возможность изменить историю, забыл, что шанс давно повернулся спиной к каждому, кто находился в классе.
Так кого же он крепко держал за ноги?
Лица невольных слушателей исказила гримаса стыда и ужаса.
Побледневшим и затихнувшим ребятам на секунду показалось, что и сами они были плодом воображения «странной девочки» с первой парты.
Совершенно невероятным образом в тетради оказались записаны все тайны небывалых рисунков их жизни.
Человек грузно выходит из метро, свинцовыми ногами обжигая хрустящую под ним плитку. Бетонная тяжесть покачивается в такт вздрагивающим ботинкам, несмело отворачивает лицо от очередного прохожего, но всё-таки подмечает некоторые детали: его спутанные волосы на опущенных плечах, пляшущие в глазах искры; в безумии он таращится на снующих мимо людей. Те смотрят в ответ, проходят мимо, оглядываются и опасаются обращаться к подозрительно вздрагивающему человеку. Борясь с непослушными конечностями, он выпрыгивает вперёд, пятится, поворачивается, упирается потным лбом в ребристую стену, мычит, сжимая зубы, воет, вцепляясь пальцами в клоки волос. Золотящиеся на солнце пряди кривятся в блеске влажных ладоней. Несколько волосков, укрываясь от глаз, ветром разносятся по ближайшим переулкам и отдают своё беспокойство скитаниям.
Человек расстаётся с ними без сожалений; он даже не осознаёт потери – присаживается, впиваясь взглядом в плиточный шов; вскакивает, топает ногами, кусает губы и несётся вперёд с искаженным в животном испуге ртом.
Человек мечется из стороны в сторону, припадая к первой, второй, третьей скамейке, ложится на них, стучит по глухоте отсыревших деревяшек раскрытой ладонью, шепча под нос случайно сложенный набор слогов. Они с трудом складываются в слова, проскальзывающие по ушным раковинам прохожих и застревающие на рукавах их разноцветных футболок. Они принесут мольбы уличного чудака домой, часть выложат на тумбе в прихожей, часть – оставят в запылившихся туфлях, а небольшой отрезок, стекший по предплечьям, смоют тугим напором проточной воды.
Человек не замечает украденный у него голос; шаткая походка ведёт его задумчивыми зигзагами – он то и дело замирает, оценивая пространство диким и загнанным взглядом. Он готовится к уже проигранной борьбе, последним солдатом выходит из строя, вынеся себе смертный приговор. В его грудь устремляются тысячи остро заточенных кинжалов, рвут сердце, выдёргивая из него податливые мышечные нити.
Из глаз его брызжут слёзы, губы вытягиваются в трубочку, выдавая протяжное «у-у-у», – происходящее настолько похоже на искусное цирковое представление, что проходящие мимо дети весело указывают пальцем в сторону «смешного дяди» с пугающей гримасой. Он смешон себе, себе и страшен – шаги шумят, глаза слезятся, попавшие в порыв разозленного ветра. Ветер снуёт внутри разорванной груди, сквозит через образовавшееся отверстие и вдруг отзывается на робкий зов о помощи.
Читать дальше