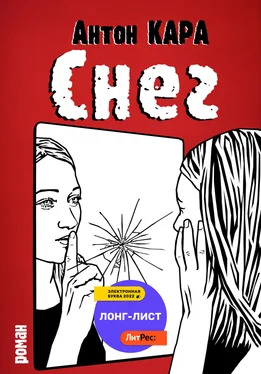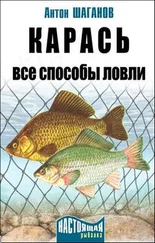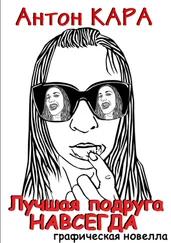Всё решено. Уже окончательно. Это случится сегодня. Через полдня. Одна вторая – отличное число для обратного отсчета.
Как раз предстоят выходные. И не будет возможности обратить внимание, что меня нет на работе. Хотя, скорее всего, они и в будни не заметят, что меня нет. Ни одна из этих офисных дур не скажет: «А что это сегодня Олеся не пришла?» И никто не поддержит разговор фразой: «Может, заболела».
Потому что всем плевать.
Никому не интересна жизнь гадкого утенка. Которому не суждено стать лебедем.
Теперь уже точно – не суждено. Всё будет кончено. Сегодня, в пятницу, в конце этой проклятой рабочей недели, гадкого утенка больше не будет. Не судьба ему увидеть понедельник. К тому же это будет необычный день. Вернее, необычный для меня. Вернее, не будет, а был бы.
Да оно и к лучшему, ведь если прощаться с жизнью в понедельник, надо мной станут смеяться все эти бестолочи: «Ничего себе у Олеси неделька началась!»
Их тупые головы начнут генерировать столько черного юмора, завязанного на моей смерти, что можно бы поставить электростанцию и еще полгода питать током целый город. Но мне уже не будет обидно. Мне уже не обидно – с того самого момента, когда начался мой обратный отсчет, заканчивающийся сегодня вечером.
В тот день, месяц назад, мне словно яблоко на макушку свалилось, как тому ученому, и всё сразу прояснилось. Вот только во мне не мысль, как у него, родилась, мысли-то эти кроют меня уже давно, слишком давно. В тот момент я решилась. Мысли – ничто, пока ты не примешь решение осуществить их. Твердое, безоговорочное решение. И я приняла решение умереть.
Мне тогда даже полегчало от этого. Прям отпустило. Наверное, как зэка, который узнал, что через месяц его освободят. Но тут же появилось непредвиденное волнение, или даже в какой-то степени страх. Наверное, как у зэка, который узнал, что через месяц его казнят.
Страдания заканчиваются в обоих случаях.
А сейчас я тоже узница. Я будто тоже облачена в старую оранжевую робу, тоже мнусь в углу вонючего карцера, из которого никому не слышны мои крики. Я тоже заперта в своей тревожной голове, в своем лихорадочном мире, в своей невыносимой жизни. И я устала.
Устала видеть, слышать, говорить, устала думать. Вот как раз думать мучительнее всего, о том и об этом, о чем нужно и о чем не нужно. А не думать не получается.
Прекратить мысли можно лишь одним способом – фатальным.
Главное, чтобы в последний момент меня не захватила вызванная страхом мысль всё это остановить. Потому что в действительности облегчения это не даст. Разве что на полчаса. А потом, спустя эти самые полчаса, я вновь окажусь там, откуда хотела сбежать, – в своей отвратительной жизни.
Я знаю об этом не из своего опыта, просто предполагаю так. Потому что слишком много думаю об этом. Я вообще слишком много думаю, а теперь – только об этом. Я не хочу стать какой-то неудачливой самоубийцей-рецидивисткой, нарочно оставляющей себе шанс всё отменить в любую секунду. Сегодняшний шаг за черту будет для меня первым и последним.
И я уверена, что даже если меня и накроет испуг в последние секунды, то и тогда я уже не в силах буду что-либо изменить. Всё случится так, как должно случиться.
Устраивать подростковые девчачьи заигрывания с суицидом, чтобы взбудоражить окружающих и обратить на себя внимание, – это не для меня. Этот идиотский нежный возраст я, к сожалению, пережила. Теперь всё по-взрослому, всё взаправду, всё сразу и насовсем.
И писать убогую предсмертную записку со следами от слез, вложенную в красивый самодельный конвертик, я тоже не собираюсь. Это абсолютно лишний драматизм – как в тех фильмах, в которых в конце умирает собака, хотя основной сюжет и не был с ней связан. Киношники знают: хотите растрогать зрителя – убейте в конце собаку. А еще лучше – если она оставит перед смертью записку, в которой признается, что это она прошлой осенью распотрошила кресло, и просит похоронить вместе с ней ее любимый резиновый мячик.
Такие записки, они ведь взламывают устоявшееся общественное осуждение самоубийства, которое обращено не к отдельному случаю, а ко всему явлению в целом. А когда появляется предсмертная исповедь конкретного человека, то это неприятие приглушается и возникают сострадание, жалость и даже как бы понимание.
Нет, я трогательную записку не оставлю. В реальной жизни не работает магия собачьего кино. И мне в ней не у кого просить прощения и не к кому взывать к сочувствию. Я и погрешить-то толком не успела. Да и почерк у меня тот еще – всё сопереживание усопшей испортит на раз. Люди, что нашли бы ее, с усмешкой спрашивали бы друг у друга: «А это что за слово? “Пожалуйста”, что ли?» – «Нет, больше похоже на “Пошли вы все”».
Читать дальше