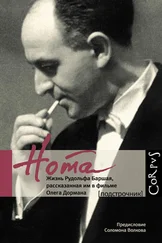Филипп помнил до сих пор, что ему тогда стало очень жалко родную бабушку, потому что она его безумно любила и спала в детской комнате с ним. Каждый раз перед сном Серафима Прокопьевна тайком от зятя, молодого коммуниста, клала внуку под подушку маленькую иконку Богоматери с младенцем Иисусом, потому что зять при каждом удобном случае смеялся над тёщей, громко заявляя, что никакого бога нет. Перед сном бабушка шептала молитву, из которой Филипп мог разобрать только своё уменьшительное имя «Филипок», перекрещивала его щепотью, крестилась сама, располагалась на кровати позади и поверх одеяла обнимала накрытого по самые уши любимого внука. Спустя мгновение малый и старая проваливались в крепкий сон на огромной бесформенной пуховой перине. Бабушка каждое утро водила Филиппа в детский садик, опасаясь нападения по дороге бездомных собак или соседских гусей, а перед садом целовала мальчика и всовывала в карманы его коротких штанов с лямочками через плечи две горсти любимых им шоколадных конфет «Кара-Кум» с коричневой начинкой из молотого ореха. Бабушка любила целовать Филиппа, и он знал это, и уже тогда, ради того, чтобы сделать ей приятное, сам часто притворно просил разрешения поцеловать её при каждом случае, когда видел, что ей этого очень хочется.
Тогда от жалости к бабушке Филипп, маленький мальчик, перестал плакать от своей нестерпимой боли. Он помнил, что успокаивал бабушку, гладил её, сидящую на траве, здоровой рукой по волосам и просил не плакать. Улыбаясь Филипп стал говорить ей, что ему уже «совсем нисколечко не больно». Внук начал плакать опять от того, что не переставала плакать бабушка, а не от своей немыслимой раны. «Бабуля, не плачь, пожалуйста…» – просил он её жалостливо, весь в слезах, и та спешно ему отвечала, утирая слезы: «Не буду, не буду, родимый…»
Спустя некоторое время прибежали с работы отец с матерью, кто-то из соседей им сообщил, и Филиппа увезли в местную поликлинику, где он, боясь предполагаемой боли от прикосновений, умолял родителей и доктора не зашивать рану, а дать возможность ей зарасти самой. Врач подумал и согласился, но предупредил родителей, что останется уродливый шрам. В последующем в благодарность медицинской сестре, Филипп с бабушкой каждый раз приносили в процедурный кабинет литровую банку клубники из огорода, чтобы смену повязки проделывали медленно и не очень больно.
Удивительно для Филиппа было то, что мать из-за этой раны тогда впервые не ругала его. Мать Филиппа только подобно бабушке беспомощно плакала в коридоре поликлиники, доставая то и дело из манжета на запястье кружевной носовой платок, прикладывая его по очереди то к заплаканным глазам, то к припухшему и покрасневшему носу. Мать словно стеснялась своего красивого носового платка в этот момент несчастья и потому свернула его несколько раз, скрывая кокетливую бахрому по краям. Елизавета Кирилловна Домникова, мать Филиппа, ещё молодая и привлекательная женщина, только накануне вечером уступила напору своего начальника, Борису Львовичу Смелянскому, видному еврею с волнистыми чёрными волосами и вступила с ним в любовную связь. Все её наряды, начиная от носовых платков и заканчивая нижним бельём и модными капроновыми чулками с чёрными стрелками позади, теперь тщательно и ревностно подбирались для этого кудрявого и желанного мужчины. В поликлинике Елизавета Кирилловна чувствовала, но отказывалась верить, что рана сына предупреждение ей свыше за неверность, и что истинной жертвой этой измены всегда будет именно Филипп, а не муж нарцисс.
Вот и сейчас плачущие девушки в лифте бередили душу Филиппа ощущениями, похожими на давние чувства к родной бабушке, но какая-то разница между чувствами к бабушке и сегодняшними чувствами к девушкам присутствовала. Или бабушка была ближе и роднее, или хорошее настроение с утра не давало осознать Филиппу в полной мере опасность настоящего положения для трясущейся и плачущей девушки. Филипп никак не находил, что нужно говорить, чтобы подруги успокоились. Обычно в таких ситуациях время течёт очень медленно. Каждая минута из-за напряжения казалась значительно длиннее. Вокруг узников неподвижного лифта стояла тишина, и поэтому всхлипывания несчастных девушек терзали сердце Филиппа. Филиппу представлялось, что он должен срочно что-то предпринять, чтобы оправдать надежды перепуганных девочек на него. Иначе он мог потерять их первый инстинктивный интерес к нему, как к находчивому мужчине спасителю, а этого Филипп опасался как позора.
Читать дальше