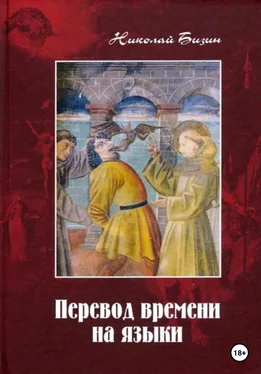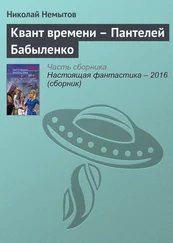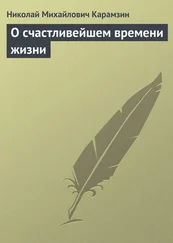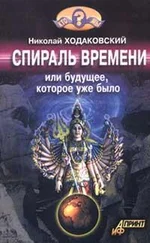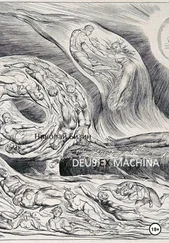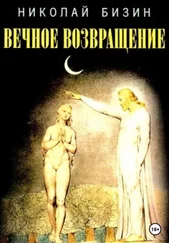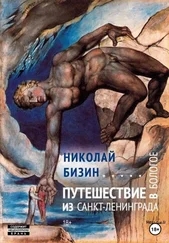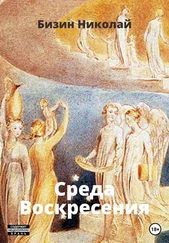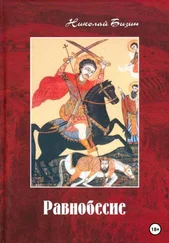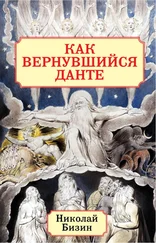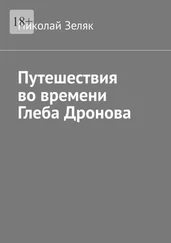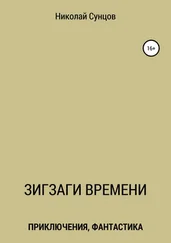Дон Луис де Гонгора-и-Арготе согласно промолчал. Меня это не удовлетворило, я предпочитал гласные. Поэтому дон Педро де Картахэна развил мою мысль:
– Помните историю с мусульманскими юношами (чьи предки-христиане жили в Испании до Великого мусульманского завоевания), внезапно объявлявшими о восстановлении своего христианства? Каков был результат их ренессанса?
Он имел в виду потомков вестготов, внезапно объявивших о возвращении в лоно религии предков. Которые закономерно, по закону мусульман, оказались ренегатами.
– Всех их, после долгих уговоров опомниться, по закону казнили. Так что они получили своё мученичество, – отозвался де Леон.
– А ведь это самоубийство, – повторил Луис де Леон. – Такое вот объявление веры, аутодафе. Фальшивые оказались святые.
Все кивнули. Католическая церковь не признавала мучениками людей, эгоистически напросившихся на казнь. Даже во времена римских гонений ранним христианам их собратьями прощалось отступничество и дозволялось возвращение в лоно… Даже иудеям – под давлением силы, дабы сохранить свои жизни… Впрочем, зачем умножать сущности? Объявление веры – личное дело каждого. Сугубо.
Ибо(!) я ни в коем случае не кончал с собой, позволив победить меня несравненным донам Луисам. Просто в этой истории мне не было реального места, а ведь я (как и мои оставшиеся несравненными поэты) не мог бы смириться с тем, что истина анонимна. Не мог с ними не быть согласным и громо-гласно не объявлять об этом.
Ведь искусство авторитарно. Автор прямо-таки навязывает своё соавторство Творцу всего сущего (а оно всё никак не навязывается!); и вот здесь мы касаемся чуда веры, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Павел); впрочем, всегда ли чудо? Часто обстоятельства бывают для нас – как смирительная рубашка для безумного. (Монах Симеон Афонский)
Ведь и с крещением иудеев в Испании дело обстояло интересней; я не случайно затронул тему ренегатства новых мусульман и их грустную судьбу. Вот некоторая иллюстрация: Педро (или Алонсо) де Картахэна, потомок Соломона Га-Леви, эрудита в талмудических науках и знатока богословия, и Давид Абенатор Мэло, по всей видимости сохранивший верность вере Авраама, Исаака и Иакова представляли собой один – ренегата, другой – ортодокса.
Насколько сложны явления мироформирования, и насколько вульгарно могут пониматься их проявления в нашей птолемеевой плоскости глобуса (как прохождение той же сферы глобуса сквозь лист бумаги, напоминая сердцебиение), можно проследить по помянутым выше диспутам.
«Давление, которое оказывалось в течение всего Средневековья на евреев, чтобы они изменили своей религии и приняли веру окружающего их большинства, не однажды принимало форму вспышек насилия, результатом которых было навязывание еврейскому населению религии большинства. Это явление было распространено в христианском мире (впрочем, оно было известно и в мусульманских странах). В королевстве франков во второй половине VI – начале VII вв. и в королевстве визиготов на протяжении всего VII в. евреев всячески принуждали принять христианскую веру. В Византийской империи евреев также заставляли креститься с помощью угроз и насилия, особенно в конце IX в. – первой половине Х в. Эти волны принудительных крещений создали во всех упомянутых местах группы евреев, обращенных против воли (анусим) и вынужденных внешне выражать лояльность новой религии. Правда, католическая церковь в принципе выступала против насильственных мер в крещении евреев, но при этом и от тех, кто был обращен не по своей воле, она требовала уважать таинство крещения и вести себя, как христиане во всех отношениях. Когда германский император Генрих IV (1056–1106) разрешил вернуться к своей религии евреям, насильственно крещенным во время Первого крестового похода, папа Урбан II (1088-1099) осудил его за этот шаг, вызвавший противодействие и гнев у горожан долины Рейна.
Даже если цифры, приведенные Крескасом, преувеличены, нельзя закрывать глаза на факт, запечатлевшийся в сознании того поколения: большая часть еврейского населения такой крупной еврейской общины, как Севильская, изменила своей вере. Таким же образом обстояли дела в Валенсии, где “было около тысячи [еврейских] домов, и за веру погибло около двухсот пятидесяти человек, а остальные убежали в горы, и лишь немногие спаслись, а большинство крестились”.
Социальные и культурные противоречия, назревшие внутри еврейского общества Испании накануне антиеврейских выступлений 1391 г., вследствие погромов обострились, и многие евреи, как простолюдины, так и принадлежащие к социальной элите, торопились покинуть тонущий корабль. Некоторые придворные, стоявшие близко к власти, торопились еще больше и крестились еще до того, как разразилась великая буря. Самым видным из них был рабби Шломо а-Леви, раввин Бургоса, происходивший из богатой и знатной семьи, уже несколько поколений занимающейся откупом налогов и близкой к кастильскому престолу. Рабби Шломо, как и подобало еврейскому придворному тех времен, получил не только превосходное талмудическое, но и философское образование, и весьма вероятно, что еще в бытность свою иудеем он интересовался христианской теологией и был знаком со схоластической литературой. В 1389 г. он принимал участие в дипломатической миссии кастильского двора в Аквитании, а годом позже, очевидно, незадолго до погромов, уничтоживших еврейство Кастилии, принял вместе со своим сыном христианство, взяв себе христианское имя Пабло де Санта Мария. Закончив изучение теологии в Париже, он сблизился с кардиналом Педро де Луна, который впоследствии стал папой Бенедиктом XIII. Прошло совсем немного времени, и его звезда воссияла и в христианском мире: бывший раввин был назначен епископом Бургоса. Вскоре после обращения Пабло получил письмо от своего бывшего друга, Йеошуа а-Лорки, еврейского врача и интеллектуала из Альканиса в Арагоне, в котором автор выражает удивление крещением друга и просит объяснить ему его причины:
Читать дальше