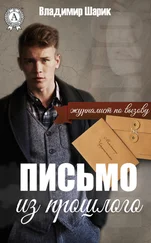Ксения Хиж
Письмо из прошлого
В квартире дубак. В щели, размером с палец, деревянных оконных рам, неимоверно сквозило. Но Маша, натянув на костлявое тело джинсы и растянутый старый свитер, все-таки села на подоконник.
Стрелка настенных часов громко щелкнула. Пять часов вечера. До прихода родителей около часа – успеет покурить и возможно, перекусить.
Внизу у подъезда сплетницы. Чешут языками, жадно обсуждая ее семью, которую семьей язык не поворачивается назвать. Так, оболочка. Она сама по себе, мать и отец – сами. Они дружат с сорокоградусными парами спирта, с трехзвездочным портвейном, с килькой с вылупленными глазами, утопленной в томатном соусе, словно в крови, с собутыльниками, которые сменяют друг друга как настенные листы календаря. Каждый день новые. А она, дочь, у них одна. Всегда. Но они об этом давно уже забыли.
Чиркнула по коробку. Запах горящей спички. Затянулась. Никотиновый дым плывет вокруг бледного лица. Приходится жмуриться. Глаза карие – вечно круглые, словно застывшие в изумлении от этой жизни, слезятся. А снизу слышны голоса соседок.
– Они венчались. А все одно – живут во грехе.
– Да ты что! – пожилая женщина с короткими волосами, бывшими когда-то явно седыми, но сейчас выкрашенными в красный цвет, наигранно всплеснула руками.
И не надоело им? Десятый, а то и сотый раз, по кругу одно и то же.
Маша грустно усмехнулась, прислонилась лбом к стеклу. От дыхания образуется бесформенное запотевшее пятно. Стирает его, нервно покусывая губы.
– Я и говорю, венчанные! – вскрикнула соседка Маши с третьего этажа. – Венчанные!
Оглохнуть бы, да второй этаж – и видно хорошо, и слышно отлично. Жаль только слушать приходится про себя же и свою семью. Противно.
– А что за грехи то? – малиновые волосы вся подобралась от интереса, сжалась, превратившись и без того худой дамы в сухую маленькую старуху. Одни уши и видать.
– Так они когда-то, раньше, – соседка махнула рукой в сторону, показывая жестом, что давно, далеко и не правда, – хорошо жили. Ну как все – ни больше, ни меньше, а как к зеленому змею пристрастились, так и началось.
– Что началось? Что за змей такой? – спохватилась вторая дама.
– Ты как будто вчера родилась! – обе одновременно цокнули, первая от возмущения, вторая от обиды.
Маша усмехнулась, снова затянулась, закашляла – крепкий красный бонд – отец курил только такие. На улице пасмурно, начинает темнеть. Она уже видит своё отражение в стекле – темные глаза, плотно сжатые губы. Кажется, они на пол лица. «Маша, у тебя красиво очерченный рот» – любила повторять ее учительница английского в школе. С пятого по девятый класс она говорила ей одно и то же.
– Мишка то сварщик на нефтезаводе, хорошо зарабатывает, квартиру вот эту от работы получил, а Аннушка, жена его в десятой медсанчасти всю жизнь врачом проработала, а сейчас медсестрой бегает, разжаловали. Ее говорят, хотели уволить, уж больно выпить она любит, да пожалели, ребенок все-таки у них. И на что оно им, пьянь эта – не пойму!
– А грех-то где?
Обе сплетницы замолчали.
– А это тебе не грех?! – вскрикнула жительница ее дома. – Пить почем зря, а ребенка на произвол судьбы бросить, это тебе не грех? Ей пятнадцать…или семнадцать, не помню точно, скорее пятнадцать.
– Семнадцать…– лениво прошептала Маша.
– А она уже сама по себе, того и гляди принесет им в подоле, а в квартире срам и смрад!
– В подоле! Вот еще! – Маша недовольно скривилась, а сплетница все продолжала:
– Школу прогуливает, до ночи гуляет где-то, ходит как оборванка, вечно холодная и голодная.
Маша порывисто выдохнула:
– Сама ты холодная!
– А в доме проходной двор! Пьянь одна к ним в квартиру идет, мужики всех возрастов! И кем она вырастет? Кто знает, что там у них происходит?
– Да угомонитесь вы. – Маша поморщилась от отвращения, мотнула головой, спрыгнула с подоконника, бросив на прощание окурок в форточку.
В животе привычно заурчало. Интересно, она когда-нибудь была сытой? Вот чего-чего, а этого она не помнит. Кажется, она хотела есть всю свою сознательную жизнь.
Она вышла из своей комнаты, прошла по длинному коридору, мимо дверей в ванную, в зал и заглянула на кухню. На столе гора бутылок из-под водки, обгрызенные корки черного хлеба, остатки кильки, что смотрит на нее из красного кровавого моря черными горошинками, кусок сала с прилипшей к нему волосинкой, заветренная колбаса. Пол в черных разводах от обуви – надо же, уже и разуваться перестали…
Читать дальше