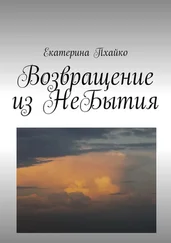Клетка, тем временем расправив перекрестья, наполнила собой дверной проем, рискуя застрять в полозьях. «Куда?!» – хотел крикнуть Эдик, хотел броситься, хотел содрать ее, словно паутину – с не паутинным треском, с неметаллическим, но с натужно костным хрустом. Подумав, оставил все, как есть, ибо в запасе было еще полчаса (он лишь отыскал фиксатор, выщелкнул его из стены, чтобы теперь никто не вошел без его позволения).
С неспокойным сердцем он ел мясо; для начала – любимые крылышки, после – лапы; спина осталась «на потом»; за чаем не пошел – ведь нужно было сначала убрать клетку, нельзя, чтобы ее видел сосед, – а просто сел, грея ладонями холодные острые колени.
С этой стороны, в этом окне – те же, безучастные, бесстрастные леса и отдельно стоящие деревья, те же пологие крыши, те же облака, в розовом закатном свете кажущиеся кошмарными, занесенными над головой, окровавленными снежными глыбами. Лег, прикрывшись одеялом, почувствовал кожей его проникающую сквозь одежду колкость, его войлочную грубость. Наверное, там, в параллелепипеде соседней купейной пещерки – она, покрытая войлочной накидкой, называемой дорожным одеялом, ее плечо, может быть, как в зеркальном отражении роднится с Эдиковым, полосатым от нелепо грубого рисунка на одеяле.
Повернувшись носом к стене, Эдик втягивал ноздрями воздух, и тот двигался с места. Но пахло лишь вагонной, многолетней затхлостью одеяла. Он ублажал себя одной лишь мыслью: что тот же запах, быть может, ловят сейчас и ее тонкие, припудренные ноздри.
Поезд притормозил, забилось сердце, перестукиваясь с колесами: некто тонко, по-женски плаксиво (не разобрать, конечно, ни слова, лишь влажные от слез тона, выдыхаемые споро-скользкие полутона) забормотал. Эдик тут же представил плаксивые вздроги женских – невидимых через стену, но ясно предполагаемых – плеч; как вдруг почетче, поближе, пояснее: «…зачем ты потащил меня? Зачем? Лучше бы я…» Затем новые всхлипы; вскоре опять: «…лучше я в тамбуре всю ночь простою, чем видеть твою харю…»
Эдик приподнялся на локте.
Мужское: «Стой где хочешь, дура, хоть в туалете… А я пошел дрыхнуть…» Звуки проползли вправо. Никуда она не уйдет. Странная, притягательная сила грубости. Нельзя ее терпеть. Но она словно магнит.
Время. Эдик вскочил. В несколько секунд клетка, скрипя в пазах – гибкая, но упрямая, – была втиснута в сумку, примята ногой. Резкий взвизг молнии на сумке, созвучный плагиат на брюках (рубашку не обязательно заправлять в штаны – дорога все-таки; подумал-подумал: нет, она может быть в тамбуре – ведь чем черт не шутит! – расстегнул, заправил, взвизгнул замком, отбросил дверь). Нельзя клетку показывать соседу, – он ведь не погнушается забраться в сумку, поглядеть, потом похихикивать будет до утра, ночи не сомкнет глаз, веселясь. Эдик уселся поудобнее, решив никуда не ходить больше.
Но все же вышел, встал в проходе; клетка, учуяв его, немого и бездвижного, возле окна, притихла. Усыпив ее бдительность, Эдик прокрался мимо пластиковых стен, скользнул сквозь воздух смазанной ловкостью грудью, увернулся бдительным плечом от болтающейся под напором сквозняка грязной занавески. Там дальше, за мощной грохочущей дверью: она, ждущая, подпирающая боком стену, ковыряющая розовым пальчиком заклепку на тамбуровой обшивке; счастье – ее прохладный, женственно острый локоть, близость ее тонкой, с голубыми прожилками шеи; счастье – ее губы, жаркий язык, касающийся его зубов…
Это было бы… Так было бы слишком просто для того Эдика, воображаемого, что пошел в тамбур, успокоил, завоевал. Этот Эдик всегда был потрясающе привлекателен. Он был не чета своему аутентичному двойнику, и не страдал нерешительностью. И клетки у него не было, а значит, не было и груза пустых переживаний. Он был прозрачен, но в нужный момент видим, в другой момент – ловок, бестелесен, неостанавливаем никакими прутьями. Он всегда был более приемлем всеми, нежели выдумавший его Эдик. Он не был краснюч, не был панически пуглив.
Эдик шагнул, повторяя шаг в шаг порывистые, ловкие движения того, второго, выдуманного Эдика: неудержимая боковая качка – поезд на повороте, сердце на вершине амплитуды, дозволенной кардиологией. Взялся рукой за пульсирующую металлическую рукоять, вдавил вниз, к полу. Сердце исчезло из груди, упало под ноги, затрепетав, растоптанное собственной стопой, оформленной походными отцовскими тапочками.
Там, в тамбуре, в волнительном тумане, наконец, она: мокрые щеки, красные, некрасивые пальцы, «о"образный рот, легкие морщинки, ползущие от носа вниз. Эдик встал, прижавшись задом к вибрирующей стене, кося глазом в ее сторону. Она, тем временем, не оборачиваясь, отвернулась совсем, чуть слышно всхлипнув.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу