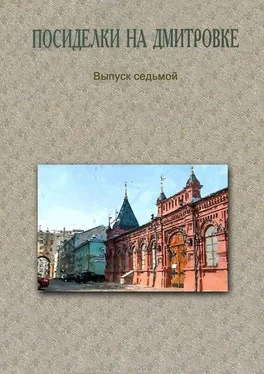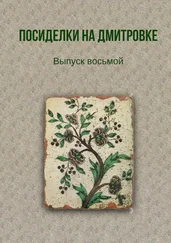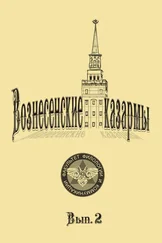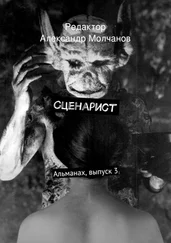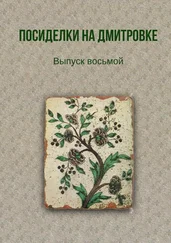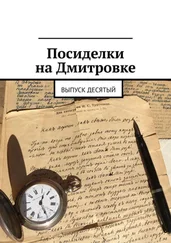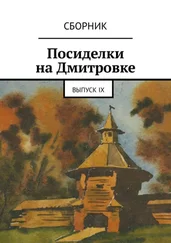4. В университете мы перемещались из одной аудитории в другую стайками. В перерывах между занятиями мы либо смеялись, либо пели: «Голубые просторы, голубые просторы, конца края нет; голубые просторы, голубые просторы – хорошо, когда сердцу восемнадцать лет!» (на следующий год пели «девятнадцать»). Мы пели громко, не стесняясь: «Не грусти и не плачь, как царевна Несмеяна – это глупое детство прощается с тобой». Но, кажется, сами не спешили его отпускать, радовались и смеялись, как дети. Смеялись над всем, над всеми и над собой особенно, вполне осознавая себя со стороны.
Я уходила из дома утром, а возвращалась очень поздно, так как почти каждый день заходила в квартиру на Горького. Мама мирилась с этим потому, что я объясняла свое «пропадание» у Орловой то отсутствием лекций, то учебника, то необходимостью заниматься вместе. Если честно, то никаких занятий в ту пору я не помню, но они, наверное, все же были, ибо весеннюю сессию мы сдали на все пятерки. Безумно счастливые, мы со смехом выкатились из-за тяжелых дверей химфака и сбежали по широкой лестнице под песню Окуджавы: «Здесь остановки нет, а мне – пожалуйста, шофер автобуса – мой лучший друг!». Света поехала в Жуковку, где ее родители снимали дачу, а я с мамой и младшей сестрой – под Днепропетровск опекать старшую сестру, проходившую учебную практику в экспедиции от Географического факультета.
5. У нас было принято звать друг друга «Светка – Ирка». Так меня называли и другие члены семейства – Светкина и Машина мама – Раиса Давыдовна, ее сестра Люся, которую я почти всегда заставала в квартире, Лева и бабушка Сусанна Михайловна. Надо сказать, я долго стеснялась Раисы Давыдовны, просто как матери Светы, экстраполируя на нее свое понимание материнской функции в доме. Когда я видела серьезность или озабоченность на ее лице, то обязательно принимала их на свой счет. С Левой мне было проще с самого начала.
В студенческие годы у меня, как и у Светки, денег никаких не бывало, если не считать, что родители выдавали нам по рублю на обед в университете. При этом мы обе имели пагубную (для рубля) привычку брать такси, не дойдя двух шагов до метро. Если я прокатывала свой рубль, мы ели на Светкин, если она, то на мой. Когда случалось так, что зеленый глаз-искуситель на «Волге» с шашечками лишал нас родительской ренты одновременно, мы выкручивались, как могли, иногда на грани фола: шли в коммунистический буфет (то есть берешь и не платишь) или заходили компанией в свободную аудиторию и Света быстро-быстро выигрывала рубль в преферанс.
Не надо говорить, что, приходя к Орловой, я ничего не приносила съестного, и, несмотря на глубокую убежденность Светланы в моем праве на обед, чувствовала за столом некоторую неловкость. Но главное мое страдание за столом заключалось в том, что я практически не понимала, о чем идет речь. Как будто она велась на иностранном языке. Я казалась себе полной идиоткой и полагала, что остальным тоже.
Прошло какое-то время, прежде чем до меня дошло, что в этом доме никого не бросает в жар от гостей, точнее пришельцев, они приходят к кому-то из членов семьи, не мешают остальным, и за это на них не обращают по пустякам внимания. Садиться за стол большой компанией в этом доме является не просто необходимой традицией литераторов, по большей части работающих дома, но могучей потребностью гостеприимства и общения. Здесь за столом в разное время на моих глазах перебывали многие известные, знаменитые, начинающие писатели и поэты (от Ф. Вигдоровой, В. Пановой до А. Солженицына и от Д. Самойлова до И. Бродского), а также литературоведы, переводчики, критики. Их разговоры часто носили сугубо профессиональный характер и не требовали моего участия в них. Когда я, наконец, поняла, что никто меня не анатомирует, не рассматривает под микроскопом, а воспринимают просто как подругу Светланы, такую, какая есть, – я почувствовала атмосферу дома, и мои комплексы начали улетучиваться.
За обеденным столом никогда не видела меньше десяти человек, а по выходным насчитывала и поболее. Сусанна Михайловна в отсутствие домработницы сама разливает суп, самый обыкновенный, накладывает второе. Света мне как-то говорила, что бабушка, посчитав количество людей за столом, иногда просто добавляет в суп воды, чтобы всем хватило. На второе тоже все очень просто – макароны или картошка с мясом, рыба. Я садилась за этот стол бессчетное число раз – очень хорошо помню огромную алюминиевую кастрюлю и большой половник из нержавеющей стали, помню тарелки и кружки, из которых ели и пили. В доме все было фундаментально, просто и функционально – ни хрусталя, ни серебра – ничего для красоты. Позволю себе сентенцию: человек живет и два-три раза в день ест. Вид накрытого посудой стола представляется мне положительным императивом жизни. Я столько раз видела посуду в квартире на Горького, что она запомнилась мне, как запоминается посуда в собственном доме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу