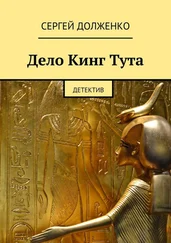Легкие шаги скользнули за спиной, маленькие теплые ладони прикрыли глаза, и горячие губы щекотно коснулись затылка… Алина с едва уловимой насмешкой произнесла:
– Дядя Ваня, вас тоже спать уложить? Не получается без меня?
Он сжал эти ладошки, торопливо поцеловал одну за другой, не соображая, что делает, и не он ли несколько минут назад с высокомерием говорил что-то насчет чужого котелка… Затем повернулся и обнял юную девушку за плечи.
И в третий раз Алина поразила его своим превращением. Сейчас перед ним стояла маленькая беззащитная девочка с прижатыми к груди руками; девочка, которая только что совершила дерзость и теперь спокойно, даже с интересом наблюдала, какое же наказание она за это понесет. Стояла тихо, запрокинув голову, и в глазах ее, прежде цвета весенней зелени, сейчас тревожно шелестела темная осенняя ночь.
Казалось, самое естественное – это подхватить девушку на руки и, нежно целуя, отнести в постель… Но Шмыга медлил, ровное дыхание Алины касалось его груди, разжигая в сердце безобразное пламя, от которого начинал плавиться рассудок. Вот-вот и… но вдруг некто посторонний ответил его голосом, холодным и мерзки-равнодушным:
– Спасибо, я попробую уснуть сам.
Иван Петрович хотел обернуться, чтобы найти наглеца, сказавшего эти невозможные слова, и немедленно убить его, но в следующую секунду догадался, что это был он сам.
И все то непонятное, безумное, страстное, желанное, что рождалось между ним и чужой невестой, вроде бы должно разлететься в клочья от этих слов, но… Алина взяла «дядюшку» за руку и повела в комнату:
– Я помогу тебе постелить.
И добавила фразу, расхожую, обыденную, словно клеенка на кухонном столе, которая вмиг сняла с него возникшее напряжение:
– Куда вы без нас, мужчины!
В комнате окна были распахнуты настежь, белые тюлевые занавеси выгибались от ночного сквозняка, холодившего кожу. Алина наклонилась над широкой двуспальной кроватью, собирая покрывало. Иван Петрович стоял позади, мир дробился и плыл в его глазах.
Расправляя простыни, она склонилась ниже над кроватью, поставив на матрац одну коленку. В каждом ее движении простом, ловком, по-кошачьи грациозном не было и тени намека на непристойный провокационный подтекст, но… эта стянутая тонким пояском гибкая талия, смуглые бедра, эта маленькая розовая пяточка босой ступни – все вместе являлось величайшим из всех искушений, которые когда-либо приходилось переживать Шмыге.
Она села, взяла вторую подушку, обхватила ее руками и прерывистым шепотом сказала, отводя прядь волос, сбившуюся на глаза:
– Ложись.
Иван Петрович медленно, как загипнотизированный, подчинился.
– Мне нравятся сильные мужики, – призналась она. – Нравится смотреть на них, нравится, когда они меня сжимают…
– Любишь читать женские романы? – спросил Шмыга, стараясь придать голосу твердость и даже насмешливость.
– Я вообще не люблю читать, – она двинула от себя подушку и легла головой на его колени. Легла так просто, естественно, и так неожиданно, что Иван Петрович ничего не смог предпринять. Даже не отодвинулся. Лишь безвольно подумал «Вот будет весело, если войдет жених!»
– Паша спит, – сказала она задумчиво. – Он слишком рано выписался из больницы.
Шмыга нисколько не удивился, что Алина способна читать его мысли. Ему казалось, что он сейчас весь, как открытая книга, которую можно пролистать от начала и до конца, если, конечно, того ей захочется.
– Ты его любишь? – осторожно спросил он, надеясь услышать единственно приемлемый для него ответ «нет».
– Конечно, иначе бы замуж не собиралась – сказала она, потерлась щекой о его бедро, и неожиданно пожаловалась:
– От тебя так хорошо пахнет, а от моего Паши только лекарствами.
И затихла, перебирая пальцами складку простыни.
На подоконнике стоял высокий ленточный кактус, и в ярком пронзительном свете полной луны его черная тень с иглами на макушке упрямо карабкалась к ним на кровать.
– Спать хочу! – Лениво поднялась, склонилась над ним, коснулась его щеки нежными прохладными губами:
– Спокойной ночи, дядя Ваня.
– Спокойной ночи, – ответил измученный Шмыга, проклиная службу, свое знакомство с чертовым «племянником», проклиная эту идиотскую жизнь, ставящую его в тягчайшее унизительное положение, а заодно моральные принципы, вбитые ему в голову добродетельной матушкой.
«Если бы Алина сказала мне одно слово, одно слово…»
Спустя час, ворочаясь на простыне, как на раскаленной сковороде, он повторял про себя:
Читать дальше