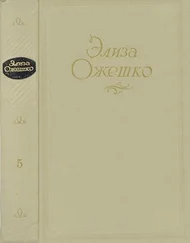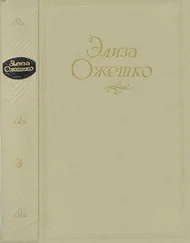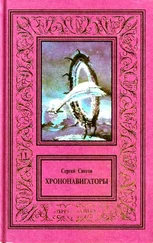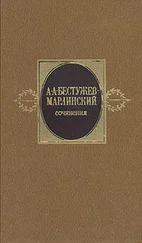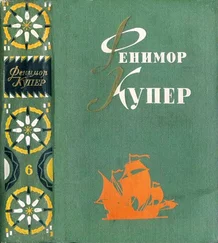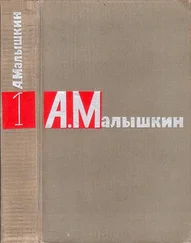– Ну что же – подумалось мне – так много невежественных людей окружает нас. Это – беда, но им приятно видеть капитана на своей улице.
Быть может встретить настоящего капитана вот так, запросто, на улице мечтал кто-то из них еще в детстве, и, обратись я к ним в этот миг с попыткой исправить заблуждение, случилось бы еще одно разочарование, а сколько их выпадает на долю бедных людей?!
О, как я ошибался!
Вы не поверите, благородный Стилист, но это была насмешка.
И это была злая улыбка.
Насмешка сделалась кличкой, прочно приставшей ко мне, а злая та улыбка превратилась в кощунственный смех, столь громкий и долгий, что однажды я испугался своей неприязни к этим несчастным людям.
Я испугался, что на смену неприязни придет ненависть и тогда во мне умрет человек.
И еще одна ужасающая мысль пришла мне в голову.
Так могут смеяться надо всеми железнодорожниками!
А это трудная и опасная профессия.
Я чувствовал, надевая свой костюм, до прискорбного этого происшествия, как строгость и сосредоточенность наполняла меня. Я даже видел паровозную топку и слышал запах опаленных ресниц. А как же иначе? Ведь все мы равны перед Богом.
Но почему, если все мы равны перед Богом, я виновен перед людьми?
Лишь только задал себе я этот вопрос, как тотчас получил ответ.
Посудите сами.
Коль скоро я могу оказывать на людей влияние, воздействие, пусть это – смех, в особенности, когда это смех, оружие грозное, хоть и на секунды, парализующее смеющегося, зачем я провоцирую их на подобное проявление болезни?
Нет ли во мне желания возвыситься, когда одеваю я свой костюм и появляюсь на людях?
Нет ли во мне страсти быть особенным?
Я часто мучаю себя этим. К несчастью, подобные размышления приводят меня к печальным заключениям.
Вот – характерный пример.
Приготовление пищи.
У меня есть кое-какой скарб. Скарб, как и принято, находится на общей кухне, то есть он уже как бы не мой, а общий и принадлежит всем. Готовить я не мастер, в отличие от Вас, благородный Стилист, да и люблю пищу простую, без затей.
Обыкновенно соседи обращаются друг к другу за той или иной посудой. Берут во временное пользование. Я же – никогда. Даже если в тот час или несколько часов у меня возникает аппетит. Благо, случается это не часто.
Приготовлением пищи я занимаюсь только лишь, когда на кухне нет никого. Под тем или иным предлогом я прохожу мимо кухни и наблюдаю, нет ли там кого. И только в том случае, когда слышу тишину, позволяю себе взять что-нибудь из как бы своей утвари.
Сколько наблюдений ношу я в себе после топтания и вальсирования у комического храма, где в котелках и кастрюлях варится все зло человечества!
Где чеснок – загрудинная боль, а картофелины – неслучившиеся куклы, перец – вожделение, а мука – удушье, где пальцы наивно полагают, что мнут тесто, а на деле производят страшное действо, приближающее немоту и смерть своего хозяина.
Здесь всегда ярмарка глупости. Оттого и ссорятся соседи чаще всего на кухне.
Все эти наблюдения нужны мне для моих трудов.
Вот как!
Стыдно, стыдно!
Я пытаюсь объяснить себе себя и не могу.
Что же говорить о близоруких моих фантазиях объяснить других?!
И поделом, что смешон, и щеки в сахарной пудре!
Прощайте. Я приглашен.
Если это никак не принижает Вашего достоинства, Ваш брат.
Papier Mache
Исповедь Виталия Фомича, изложенная им на обычных тетрадных листах, и для него самого явилась полной неожиданностью. В исповеди этой не было ровным счетом никакой нужды. Мало того, ей не было никакого применения. Будучи тихим одиноким человеком, Виталий Фомич избегал общества, пусть самого приличного, так как от всякого общества ему доставались бесконечные неприятности. Потому письмо это не могло быть отправлено. Потомков по себе он не оставил, и рукопись не могла стать кому- то духовным завещанием, или же поводом к размышлению. Словом, исповедь эта была обречена, и разумом Виталий Фомич понимал это, однако же, более глубокое, подсознательное в нем не желало мириться с такой обреченностью и требовало своего.
Невозможно подсчитать, как давно велась эта интимная война. Так или иначе, в тот вечер, когда соседи забылись, в комнате сделалось прохладнее и из буфета потянуло запахом давно не существующего вишневого варенья, Виталий Фомич отыскал в тетрадке с расчетом убытков чистые страницы и как-то сразу, бегло принялся писать. Кажется, случись землетрясение, и оно не смогло бы приостановить той порой нервный шаг химического карандаша Виталия Фомича. Вот вам эта исповедь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу