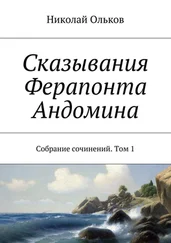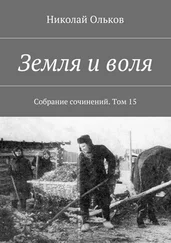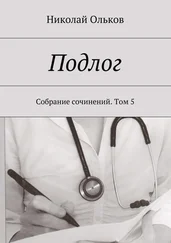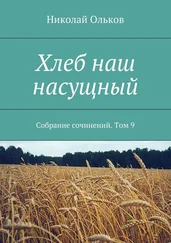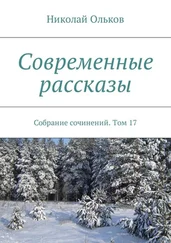– Молодой человек, вы зачем мне не сказали это пять лет назад? Конечно, докторская нужна, и вы её получите, вам ведь нет и тридцати. Может быть, это тот случай, когда не надо спешить? Я так огорчён, но вы таки имеете право плюнуть на старого ворчливого еврея и поехать в свой Питер, в который моему деду въезд был категорически запрещён. Вы слышали о черте осёдлости? Да, извините. Тогда принимаем такое решение. Вы работаете в отделении, а я нахожу своих людей в Питере, не сомневайтесь, что они есть во всех медицинских академиях этого города. Вы с ними познакомитесь, и начнёте работу над докторской здесь, под моим наблюдением. Ответ прошу сразу: вы согласны? Да? Спасибо, мой дорогой, вы же знаете, как я к вам отношусь. Я познакомлю вас с нужными людьми уже через месяц, мне нельзя откладывать на слишком далеко, я, кажется, прокараулил одну болячку, так что не будем медлить.
На другой день новая табличка появилась на кабинете заведующего отделением.
Артём уже много лет не бывал в родном селе, потому что особо и ехать было не к кому, да и работа не отпускала: студенты отдыхать, а он на полторы ставки, чтобы на зиму заработать. Отпуск брал перед сессией, чтобы спокойно пробежать глазами чёткие записи лекций, спасал студента хороший, уверенный почерк. А тут приснилось ему, что идёт по деревенским улочкам, и ни одного знакомого лица, прут навстречу какие-то уроды, гнусавят, матерятся. Дошёл до кладбища, остановился в ста шагах: все те же сосны, все тот же крутой земляной вал. Он знал эту историю, в конце девятнадцатого века в селе построили церковь, епархиальное управление в средствах отказало, и сход постановил собирать деньги всем миром. Избрали сборщика, кузнецы привезли тяжёлый кованый сундук о трёх замках, для сборщика, для старосты церковного и для волостного старосты, чтобы только вместе могли открыть и взять нужную сумму. Печники указали залежи пригодной для кирпича глины, стали бить кирпич, печи для обжига сложили, готовый кирпич укладывали в штабели и укрывали соломой. Когда приехал дьякон из Тобольска и привёз проект церковный, весь мир собрался. Ходили вокруг раскрытых листов, вздыхали, не можно понять крестьянину, какая же церква будет из этих чертежей? Тогда дьяк повёл народ к амбарам купца Пшеничникова, и на тыльной стороне углём по беленой стене нарисовал храм. Толпа ахнула и пала на колени. Получалось, что церковь будет круглая, без колокольни, купол закроет молельню и алтарь, а над ним ещё один купол, высокий да широкий, в нем на толстом бревне колокола повесят. При входе часовенка, изба для паломников, рядом поповский дом. Записанная первым учителем церковно-приходской школы, эта история хранилась в сельсовете. Новый священник предложил обнести кладбище земляным валом, потому что скотина заходит, кресты ломает, гадит. Народ согласился. Неделю мужики рыли канаву и бросали землю на внутреннюю сторону, бабы тоже не отставали, в мешках и фартуках таскали глину на вершину вала. Плотники врата сделали баские, на обе половинки кресты православные закрепили. Тут же запись о закупке саженцев сосны, черёмухи и сирени, которые высаживали весной, со всех деревень прихода приехали люди, батюшка молебен отслужил, и весь день работал народ, соснами в два ряда обсадили вал, черёмуху с сиренью внутри вдоль дорожек, каждый у своих могил прикопал по былинке. И вот уж больше ста лет шумят сосны, весной, к Троице, сирень и черёмуха благоухают, слабые женщины даже угорали от этих запахов. Нигде не видел похожего кладбища Артём, да и старшие судили, что лучше нашего в округе нет.
Хоть и во сне, а душевное волнение охватило душу, поклонился кладбищу и вошёл в ворота. И что же? Нет могил, ни сирени, ни черёмухи, только те же уродливые незнакомые люди гундосят вокруг, хотя и внимания на пришельца не обращают, как будто не видят его. А могилы разрыты, только останки гнилых досок обозначают места бывших захоронений. И ни одного креста, как будто специально убраны, ведь должны быть кресты, они наверху, не могли сгнить бесследно. И тут Артём проснулся.
Посмотрел на светящийся циферблат больших напольных часов, купленных у старого своего больного Арсения Ипатьевича. Разговорились в ночное дежурство о старине, дед и признался, что семейство их было одним из состоятельных в городе, только советская власть живо расправилась. А вот часы в то время были в ремонте у порядочного человека, тем и спаслись, и когда последний отпрыск старого рода вернулся с фронта, часовщик нашёл его и попросил забрать часы. Артём только третьему реставратору, осматривавшему инструмент, поверил, и не пожалел. Часы восстановили мелодичные звоны каждую четверть и половину часа, негромко, как бы где-то вдали, отбивали часы, а в полдень играли «Боже, царя храни!». Долго лежал, выходя из устойчивого видения, прошёл на кухню, выпил рюмку коньяка. «Странный сон! Надо поехать в деревню, стыдно, совсем забыл матерей своих и отца». Артём часто удивлял знакомых, когда в разговоре упоминал о двух мамах. Так оно и было, родная, Мария Ивановна, умерла, оставив его десятилетним, потом отец привёл чужую женщину, тоже Марию, только Никандровну, и сказал, что надо звать её мамой. Трудно далось мальчишке это родное и близкое слово, но не было на свете другой такой женщины, которая бы приняла чужого ребёнка как своего. Детей у неё не было, и материнское чувство проснулось к сорока годам. Став взрослым, уже перед армией, Артём спросил: «Мама, а почему ты меня ни разу кнутом не вытянула, ведь я пакостной был?». Никандровна засмеялась: «Другой раз и надо бы, да рука не поднималась. И от людей нельзя, скажут: чужой, вот и бьёт». Артём обнял её: «Как ты можешь так думать? Разве я тебе чужой, что ты, мама!». Перед армией парни становятся понимающими…
Читать дальше