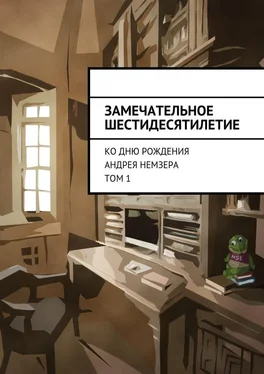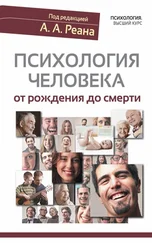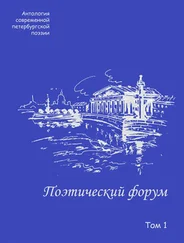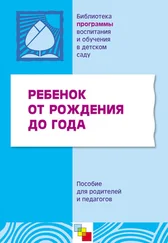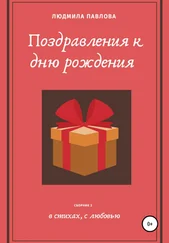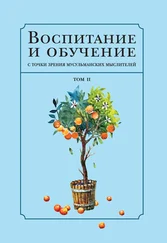1 ...8 9 10 12 13 14 ...33 «С Вами мне хочется вглубь, in die Nacht hinein, вглубь Ночи, вглубь Вас. Это самое точное определение. – Перпендикуляр, опущенный в бесконечность. Отсюда такое задыхание. Я знаю, что чем глубже – тем лучше, чем темнее – тем светлее, через Ночь – в День, я знаю, что ничего бы не испугалась, пошла Бы с Вами и за Вами – в слепую.
[Примечательно, что сразу вслед за этим пассажем – в скобках, как ремарка или реплика в сторону – следует своего рода извинение за излишнюю прямолинейность этого опыта по присвоению чужого языка – М.Б ]:
(Заметили ли Вы, что нам всегда! всегда! всю жизнь! – приходится выслушивать одно и то же! – теми же словами! – от самых разных встречных и спутников! – И как это слушаешь, чуть улыбаясь, даже слово наперед зная!)» [Там же: 180]. Повторение чужих слов вызывает смущение, которое прорывается уже собственным цветаевским эмфатическим синтаксисом (заметим, что в первом процитированном нами фрагменте не встречается ни одного восклицательного знака).
Однако эти письма – не только опыт усвоения чужого для Цветаевой языка, но и жанрово-стилистический эксперимент: часть посланий представляет собой развернутое объяснение в любви к Иванову – первый опыт хорошо известных по более позднему цветаевскому эпистолярию любовно-восторженных писем:
«Вы для меня такое счастье и такое горе – Ваш отъезд! <���…> Вы же не можете не понимать, что мне нужны только Вы! <���…> я знаю, что ничего бы не испугалась, пошла Бы с Вами и за Вами – в слепую. <���…> Но Вы уедете! уедете! уедете! <���…> Шлю Вам привет – кладу Вам – по собачьи – голову в колени. – Не сердитесь! Я не буду Вам надоедать, я Вас слишком люблю» [Там же] и т. д. Заметим, что эта приподнятая эмоциональность явно надумана (при всей лестности для Цветаевой внимания со стороны метра и даже возможной очарованности его личностью и интеллектом, вряд ли речь здесь может идти о серьезном романтическом чувстве): это целиком сконструированная коллизия, мотивация для стилистического эксперимента.
При этом восторженная эмоциональность любовных высказываний в это время уже не является чем-то принципиально новым для стиля Цветаевой – элементы такой речи инкорпорированы во фрагменты дневниковых записей, но они имеют принципиально другую жанровую установку – это разрозненные реплики в постоянно возобновляющемся внутреннем диалоге с воображаемым собеседником (стиль ее записных книжек, сформировавшийся под непосредственным влиянием прозы В. В. Розанова 26 26 См. об этом, напр.: «Палитра русской прозы существенно разнообразилась. „Уединенное“ и „Опавшие листья“ В. Розанова с их бессюжетной фрагментарностью стали едва ли не самым впечатляющим литературным явлением рубежа 1900—1910-х годов. Фрагментарная композиция подчеркивала лирическую природу текста, а темой его было именно авторское „я“. <���…> При ясно выразившейся с первых шагов в литературе приверженности Цветаевой к „дневниковой“ модели в лирике, неудивительно, что и ее проза имела ту же родословную» [Шевеленко: 204].
), оставаясь внутри дневниковой лирической прозы, однако в посланиях Иванову происходит экспансия этого стиля в эпистолярий. При этом образец писем такого рода был давно и хорошо известен Цветаевой: это «Переписка Гете с ребенком» Беттины фон Арним 27 27 То, что «Переписка Гете с ребенком» послужила моделью для цветаевских «эпистолярных романов», отмечал К. М. Азадовский [Азадовский], полагая, однако, что актуализация интереса Цветаевой к фигуре Беттины связана с ее увлечением Р.М.Рильке (более поздним по времени, чем рассматриваемый нами ивановский эпизод).
, с которой она неоднократно сравнивает себя в записных книжках этого периода. Возникновение в поле ее творческого зрения Вячеслава Иванова могло сыграть роль своеобразного катализатора. И дело не только в том, что «гетеанство» Вяч. Иванова было широко известно, но также в том, что Ивановым однажды уже была исполнена роль «Гете» при Беттине – Майе Кювилье, которая выстраивает свою переписку с Ивановым по литературной модели, о чем Цветаевой было хорошо известно 28 28 Подробно об этом см.: [Обатнин].
.
Кажется крайне показательным, что в первом письме Иванову появляется и написанное по-немецки слово «Kind» – часть выражения «Das fremde Kind», «чудесное дитя» (Цветаева имеет в виду название и персонажа сазки Гофмана). Несмотря на то, что в письме эпитет обращен к Бальмонту, он, конечно, проецируется и на автора послания – это понятие является важнейшей частью ее автомифа нач. 1920-х гг., что осознавала и Цветаева, и ее корреспонденты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу