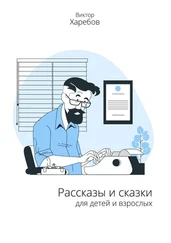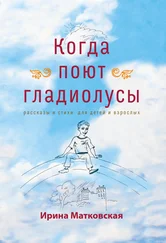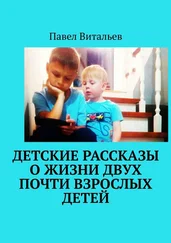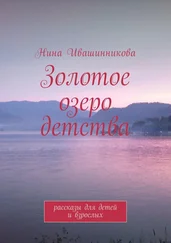Тогда мы так и пасли – по очереди. Было коров шесть или семь, огромные… А я, как ты, росточком не вышла. Свою корову не боялась, а чужих испугалась маленько. Мне хворостину отец дал, так я далеко сзади коров шла, а хворостину впереди себя держала, чтоб они ко мне не приближались. Коровы-то лучше меня дорогу на поле знали, сами привели меня на пастбище. Целый день я вокруг них ходила, боялась, чтоб не разбрелись… А солнце так пекло, что у меня темно перед глазами стало. Помню, кусточки поодаль стояли, я до них добрела, думала, посижу, охолонусь. Да и заснула невзначай. А как открыла глаза – поле-то пустое! Ни одной бурёнки нету! У меня сердце упало… Вот, подумала, проворонила я стадо, нет мне дороги домой. Кто ж мне такое простит – чтоб без коровы жить? Мать мне утром картошек несколько дала, хлеба кусок. Помню, ела я этот хлеб и думала, что в последний раз. Решила остаться под кустом умирать – так боялась домой возвращаться. Долго сидела, уж и слёзы кончились, и темнеть стало, а я всё живая и страшно мне, сил нет. Всё кажется, что волки сейчас из лесу выскочат – они ж тогда по ночам даже во дворы забегали. Закрыла глаза, чтоб не видеть ничего. Вдруг – голоса приближаются. Я в куст так и вжалась. А голоса всё ближе и ближе, слышу, отец мой, зовёт… Выскочила к нему, плачу… Ну, меня тут же той хворостиной он и выпорол – мол, коровы-то давно по дворам, а по мне мать уже глаза выплакала…
– Детей бить нельзя! – нравоучительно изрекла Маринка.
– Меня и не били! Ну, по попе отходили. Больно было, но я так обрадовалась, что меня нашли, что и не пикнула.
– А правда, что вы тогда без туфелек ходили? – девочка приоткрыла глаза и, любуясь своей обновкой, повертела ножками вправо-влево.
– Так летом и сейчас дети в селе босиком ходят. А я в твоём возрасте и слова такого не знала – туфельки!.. Валенки да черевики.
– Так это же неприлично – с грязными ногами ходить! – возмутилась Маринка.
– Ой, делов-то! – рассмеялась в ответ бабушка. – Ну что, внученька, вот и мостки наши виднеются. Приплыли!
Маринка вмиг подскочила к бортику. Вдоль берега Самары сплошной стеной стоял густой лес. Лишь впереди маячило светлое пятнышко песка, от которого тянулся в реку деревянный причал. Теплоход громко загудел, оповещая об остановке. Бабушка достала из-под ног небольшой чемоданчик, внучке вручила лёгкую плетёную сумку, из которой торчала голова белокурой куклы. Из немногочисленных пассажиров только они двое готовились к высадке. Теплоход ловко пристроился к шаткому причалу, молодой матросик перебросил деревянную лесенку, перешагнув на мостки, перевёл бабушку, протянул руку девочке. Но она со страхом смотрела вниз. Тёмная вода хлюпала о борт, частая волна то поднимала, то опускала теплоход. Маринка никак не решалась ступить на дрожащую лесенку. Следующий гудок возвестил о конце остановки, и она закрыла глаза, собираясь заплакать. В эту минуту чьи-то сильные руки подхватили её и в одно мгновение переставили на зыбко дрожащий причал.
* * *
Маленький городок, в котором жила Маринка, со всех сторон обнимала степь. Высокие травы убегали до самого горизонта, и Маринке, ещё ни разу не выезжавшей далеко за пределы родного поселения, казалось, что этот живой ковёр устилает весь земной шар и возвращается опять к их городу, только с другой стороны.
Летом она с ребятами из двора часто гуляла в степи. Путь был недолгий. Стоило завернуть за угол дома, поесть шелковицы в тощей посадке, отделяющей дома от степи, – и вот она! Бескрайняя, скучно однообразная и… многоликая. Настоянная на солнце трава обдавала жаром и терпким, слегка горьковатым ароматом полыни и ромашки. Из густоты трав на тропинки выбегали ручейки колокольчиков, васильков, тысячелистника, скромного дикого вьюнка… Его открытые бледно-розовые чашечки предвещали ясный день, сморщенный в трубочку цветок – близкий дождь. Крики птиц, жужжание насекомых, посвист сусликов – все эти звуки говорили о том, что степной дом обитаем и густо заселён.
Ребята знали все ближайшие тропки. Они были сплошь украшены рыхлыми холмиками и изрыты норами разного калибра. Приходили по делу: на охоту за огромными чёрными мохнатыми пауками – тарантулами. Снаряжение было примитивным – высокая жестянка в авоське и несколько длинных толстых ниток, к концам которых были прикреплены шарики смолы. К норе подкрадывались тихо, чтобы не спугнуть добычу. Опускали в отверстие липкий шарик и начинали дёргать за нитку. Тарантулы были то ли ученые, то ли хитрые и на человеческие уловки легко не попадались. Ребятня не выдерживала молчаливого ожидания, начинались разговоры, смех – можно было переходить к другой норке. Иногда охота шла быстро и удачно. Когда нитка переставала болтаться как вялая макаронина, а натягивалась, отяжеленная пленником, её быстро выдёргивали. Появившееся на свет чудище всегда вызывало общий возглас ужаса и радости. Паука бросали в жестянку и переходили к следующей норке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
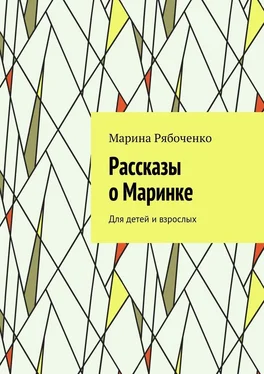
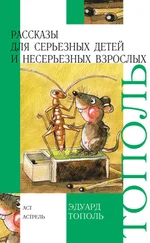

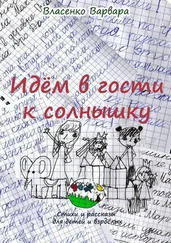

![Владимир Воробьёв - Я не придумал ничего [Рассказы для детей и взрослых]](/books/417179/vladimir-vorobev-ya-ne-pridumal-nichego-rasskazy-d-thumb.webp)