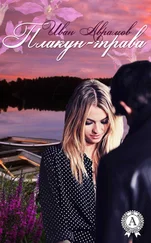– А Лягушевка?
– Лягушевка хоть и в селе, да не село. В селе пахари, а в Лягушевке забродчики. Донат, ты того… не стесняйся, – неожиданно заключил старик. – Давай я тебе еще стаканчик налью, под жареху-то, а?
И, не дожидаясь согласия, наклонил бутыль над стаканом; вино, отдавая стакану погребной холод, заставило запотеть граненое стекло, сквозь которое все равно проникал сильно и чисто красный отсвет.
Леонид Пантелеевич и Павлине плеснул полстакана, раздумчиво произнес:
– Павлина моя, говорю это тебе, чтоб знал, коль жить у нас будешь, в девках засиделась. Через месяц двадцать пять стукнет. И то – война… Сваты, однако, не обходят. Яннакиев вон золотые горы сулит, отдай только, мол, Пантелеич, Павлину за меня. Не понимает, дурак, что здесь не моя воля – полюбится ей, пускай и идет за него. Я – что, не мне же Яннакиева любить…
Впервые за все время Донат прямо посмотрел на молодую хозяйку; она на слова старика не обиделась, не смутилась.
– Дался вам, отец, этот Яннакиев, – спокойно откликнулась.
– Пойдем на двор, колхозную сеть разложим для просушки, – предложил Леонид Пантелеевич, когда отобедали.
Сеть была с некрупной ячеей, на камбалу. Харабуга приволок ее с берега утром, раздосадованный тем, что оказалась пустой, – не повезло, вишь. Сеть еще оставалась влажной, пахла морем и рыбой, вдвоем они ее аккуратно расстелили на травке за сарайчиком. Здесь круглились несколько кустов черной смородины, источавшей нежный аромат цветения, на желтых букетиках, прятавших сладость, копошились пчелы, собрав пыльцу, возносились с мерным жужжанием. На бельевой веревке подвешены были вязки бычков, недавно вынутых из рассола и вымоченных в чистой воде: на воздухе они протряхли, подсушились, выпустив из брюха янтарные, где прозрачные, где мутноватые, пузырьки жира.
Собрались идти в дом, чтобы подробнее поговорить о работе, как вдруг старый Харабуга, придержав за рукав Доната, сурово предупредил:
– С девкой не балуй. Ежели что случится, не прощу.
– Бог с тобой, Пантелеич, – оторопел, неудержимо краснея, Донат, чувствуя себя обиженным и одновременно, впрочем, этим словам радуясь. – Или я бессовестный какой?
– Знаю, что говорю, – так же сурово и уверенно заключил Леонид Пантелеевич и внезапно помягчел: – Такой, брат, девки во всей округе не сыщешь. Если не понял, так поймешь.
И началось житье Доната в этой хате, одиноко стоящей на взморье, между степью и водой, привычно подставляющей саманные свои бока всем, прилетавшим отовсюду ветрам – и штормовым, с крепкой морской солью, и суховейным, сжигающим раскаленным дыханием и злаки, и упорные степные былки, привыкшие обходиться малой влагой. Лелеял тогда Донат мечты о счастье. Да сколько не жил на белом свете, счастье от него ускользало, как ускользает красная рыба из порванной сети.
Любил Донат эту свою старую лодку, облитую смолой давних лет, с высоковатой, не то, что у теперешних «форелек» из фанеры или дюралевых «прогрессов», да и широкой кормой, неплоским днищем; на неуклюжем с виду баркасе выгребал он и в самый лютый шторм, когда море, тряся чубами бурунов, седело от ярости и не раз по спине, и без того продрогшей, явственно проскакивал холодок – каюк, хана, не выберешься из этой соленой круговерти. Азовская волна, хоть и короткая, и невысокая – поднимается всего на метр-полтора, зато крутая, как родной красноглинистый обрыв, в котором Караюрий вырубил лесенки к морю. Волна эта плоскодонку, например, опрокинет запросто, если подставишь неосторожно борт под ее бешеный удар.
Тяжел баркасец, да надежен. Посудину такую тащили, кряхтя, напружив всю силу, волоком по вязкому песку обычно четверо дюжих мужиков, Донат же управлялся с нею один, а как – никому то ведомо не было. Силой, конечно, Бог наделил его редкой: однажды, по молодости, погорячился, сцепил руку в споре с тем же Яннакиевым, что понесет плоскодонку (она легче, чем баркас, но тоже не перышко) сам, без всякой помощи шагов тридцать, не меньше, и руки их разбил кирпичным ребром ладони Леонид Пантелеевич, с сожалением глянув на своего жильца, в то время как Яннакиев прятал ухмылку в уголках рта, хотя, кажется, уголков этих самых у него и не существовало, потому что щеки на узком и длинном, как кувшин, лице были до того втянуты, притиснуты к зубам, что рот округлился, как куриная мокрая гузка.
Лодку поднимали вчетвером, или даже вшестером, на весу ее не держали, а тотчас подали на широко расставленные руки поднырнувшего под нее Караюрия – он попросил только, чтобы сразу не отпускали, а подержали бы, покуда не найдет равновесные точки; в то мгновение, когда вся тяжесть легла на него одного, Донат почувствовал, как страшно давит плоскодонка, и подумал, что, вполне возможно, спор он проиграет. Идти надо было осторожно, чтобы лодка не покачнулась, не перевесилась ни вперед, ни назад, тогда все, ее уже не выравняешь, не удержишь – рухнет на песок. Донат шел, опасливо передвигая налившиеся свинцом ноги, прислушиваясь, как зреет, набухает боль в суставах, как груз будто выламывает плечи. Первые шаги нарочито не считал, настраивая себя на долгий и выматывающий путь, зато, весело ощерив зубы, шаги Донатовы считал Яннакиев, делая это охотно и громко, к каждой очередной цифре присовокупляя бессовестную подначку:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу