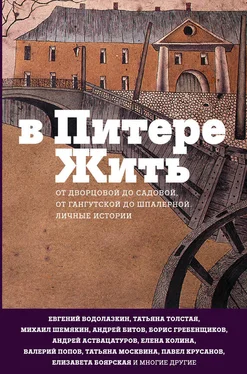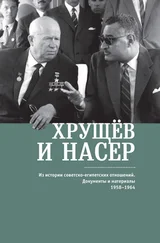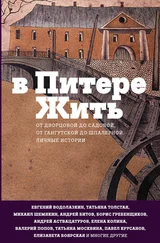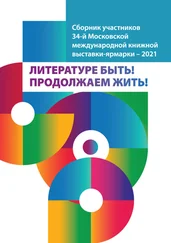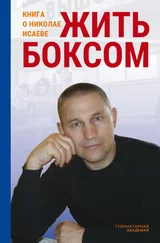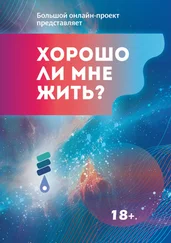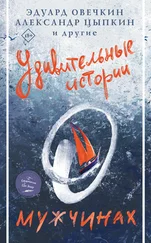Проходил мимо дачи Державина. Тогда еще не было музея, и о том, что это огромное белоколонное строение, этот дворец – дача великого поэта, тамбовского, олонецкого губернатора, первого министра юстиции России и участника подавления пугачевского восстания, сообщала древняя мемориальная доска с ятями и твердыми знаками. Помнится, я, когда первый раз увидел эту мемориальную доску, был тронут. Буквально тронут, поскольку меня тронуло, торкнуло расширение города. Вот здесь в начале XIX века были… дачи. То есть лес был, волки, кабаны, лоси… Грибы, ягоды. А теперь самый центр города.
Как-то это всегда трогает. У немцев для истории есть слово Geschichte от geschehen – произойти. История – произошедшее. Но штука в том, что по-немецки Schichte – слой. Значит, немец слышит в своем слове «история» не только то, что нечто произошло, но и то, что это нечто – слоисто. И это очень верно. История – слоиста. Один слой вдавливается в другой, остается отпечатком, порой исчезающим сразу, порой остающимся надолго… Когда ощущаешь вживе слой истории, что-то торкает… меня, по крайней мере.
А некоторое время спустя после дачи Державина меня торкнуло по-настоящему. Я даже вздрогнул. Джеймс Джойс называл такие миги эпифаниями. Богоявлениями, если перевести на русский с греческого. Вот ты идешь, идешь или сидишь, сидишь, и всё тебе мерзит, или всё тебе (как поет Сергей Шнуров) по пенису и до фаллоса, и вдруг тебе становится очень хорошо, очень светло, едва ли не счастливо. Нет, нет, это не то, что некоторые из вас подумали. Никакой химии. Если химия, то это приход называется, а не эпифания. Такую эпифанию описал Сартр в финале своего первого и очень скучного романа «Тошнота». Антуан Рокантен сидит в кафе, всё ему обрыдло, от всего его тошнит (собственно, тому роман и посвящен, как всё обрыдло и как от всего тошнит, потому и читать его скучно), владелец кафе ставит пластинку с записью Эллы Фицджеральд. Рокантен слышит негритянскую певицу, и всю обрыдлость, всю тошноту как рукой снимает.
Мне было тогда, когда я знай себе шел по набережной от дачи Державина, совсем не обрыдло и совсем не тошно. Маленький я еще был. Не дорос до рокантеновской тошноты. Мне было обычно. А стало необычно . Потому что я увидел слияние Крюкова канала и Фонтанки, а чуть поодаль вдоль по Крюкову я увидел колокольню Никольского собора, построенную Саввой Чевакинским. Она была синяя, тонкая, изящная. Мушкетерская какая-то. Она была будто выпад в небо шпаги, вот какая она была. Я стоял и смотрел на нее. Ей-ей, я завидую тем, кто первый раз ее увидит. Не специально пойдет смотреть архитектурные достопримечательности, а вот просто по делу или без дела побредет по набережной Фонтанки, равнодушно скользя взглядом по ровным рядам домов, и – бац – как глаза промыл.
Это все равно как идешь по третьему этажу Эрмитажа мимо художников Франции XIX века. Смотришь, позевываешь; нет, если увидишь «Мертвую лошадь» министра культуры Парижской коммуны, Гюстава Курбе, то содрогнешься, конечно. Гений, что скажешь. Но ее еще увидеть надо. Она хоть и монументальная, но маленькая. И мрачная. Безысходная. Отчаянная. И вдруг после зализанных картин, среди которых мрачным всполохом маленькая великая картина, – праздник. Праздник цвета, света, жизни, сияние. Импрессионисты. Потом, разумеется, праздник кончается и начинается высокая трагедия Ван Гога, изломанность Пикассо, но сначала – праздник.
Вот и эта колокольня Чевакинского – празднична. Тогда я свернул от маршрута – к морю – и пошел себе бродить по Коломне, где жил пушкинский Евгений, где умирал Суворов, перед смертью успевший шепнуть своему племяннику, знаменитому графоману Дмитрию Хвостову: «Митя, не пиши…» А чем плох Хвостов? Велимир Хлебников его очень ценил. Ставил на одну доску с Пушкиным. И то: две строчки из поэмы Хвостова, посвященной петербургскому наводнению, чем не Хлебников, чем не ранний Заболоцкий? «По брегам там лежало много крав, ноги к небу вздрав». ВАУ!
Коломна мне тогда понравилась. И Новая Голландия, тогда еще не реконструируемая, а лежащая в романтическом запустении. Этот район на многих производил впечатление (употребим канцелярит). Помните, приезжал к нам американский архитектор, Мосс, строить новое здание Мариинки. На него тогда все накинулись, проект его задробили. В результате вместо брутальной, резкой, оригинальной архитектуры получили сараюшку с колонночками. Ну да бог с ним.
Мосс был в полном восторге от Коломны. Он говорил, что нигде такого не видел. В центре города упал кусок чуть ли не деревни. Новая Голландия его восхитила. Он поэтичная натура, этот Мосс. Его спросили: что главное в Петербурге? Он ответил: лед, камень, вода. Его спросили: самые замечательные строения в Петербурге?
Читать дальше