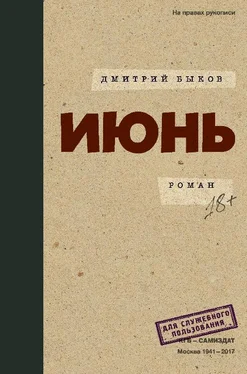И Крастышевский стал с ожесточением работать на войну — повествовать о мерзостях Германии, упирать на гнусности коричневого мировоззрения, кодировать свастику в структуре абзацев. Это была работа на износ, почти круглосуточная, и до него доходили уже смутные слухи о том, что он услышан: вроде на каком-то совещании сказали, что пора покончить с оборонительной доктриной… что нельзя ни пяди земли заполучить, если всегда защищаться… Он начал даже регулярно есть, поправляться. Все в нем оборвалось 14 июня, когда он прочел: провокации… слухи… никаких признаков… Это означало только одно: полное разоружение. Это значило, что подготовка, которой невозможно было не видеть, замалчивалась по принципу: чего я не вижу, того нет.
Они насмехались над Францией, но втайне желали для себя ее участи. Они всегда хотели быть французами, ведь французам так легко все сходило с рук. Они и теперь хотели сдать всех, кто не понравится новым хозяевам, и устроить себе Виши где-нибудь в Свердловске. От этой мысли у Крастышевского начинала болеть голова и перед глазами появлялись мушки.
Узкий и все сужавшийся, смерзавшийся круг людей, с которыми он еще говорил, преисполнился надежды — мерзейшего из качеств. Вот видите, говорили они, вдумчиво кивая. Вот видите, ничего нет. Все это паника. Если когда и начнется, то не сейчас. Да и оцените явные невыгоды — кто же будет начинать летом, когда уже так близко распутица? Само собой, возможны любые провокации, но государственная мудрость — в которой вы же не можете отказать? — именно в том, чтобы четко отличать их; неверный шаг в самом деле может обернуться катастрофой. Но, слава богу, теперь не двадцатый год, и мы умеем как-нибудь…
Они все трусили. Наверху трусили сильней всего. Они понимали, что ничего не могут.
И тогда он приступил к последней своей работе.
Ковентри, Ковентри. Это слово все чаще мучило его. Что-то было в самом его звучании. Крастышевский знал, что в августе прошлого года город почти стерли с лица земли. Почему Ковентри ничему их не научил? Нужно было найти звуковой антоним для Ковентри, но он не находился. Нужные слова вообще словно кто вымел из его мозга. Смог еще подумать «вымел», но само это слово уже почти ничего не значило.
Оставался шанс. Крастышевский приготовил за неделю документ, который можно было подать. В субботу, двадцать первого, позвонил Лене. Леня мог как-нибудь отвезти своему начальству. Начальство могло как-нибудь, любой ценой, под предлогом особой срочности… Наверняка у них есть там каналы. Это был текст, призывавший не расслабляться ни на секунду. Это был текст, призывавший начать, ибо было уже ясно, что в противном случае первыми начнут они; и тогда, в сочетании с внезапностью, безумной внезапностью, вся их огневая мощь… вся сила и тяжесть покорившейся им Европы… Если сейчас, немедленно, не прочесть то, что он подготовил, и не избавиться от благодушества, — может произойти нечеловеческое, непредставимое.
Был первый ясный день после нескольких жарких, удушливых и дождливых. Травы пошли в бешеный рост. По Москве ходили, кружились, порхали счастливые люди. Крастышевский дрожащей рукой, не попадая в кольца диска, звонил из уличного телефона.
— Лени нет, он уехал, — сообщил ему дряблый старушечий голос.
— Как нет, как уехал?! — в ужасе вскричал Крастышевский. — Он необходим, его на службу вызывают сейчас же!
— Он уехал на выходные, — уже с раздражением повторил старушечий голос. — Его не будет до завтра, до вечера.
— Боже мой! — простонал Крастышевский. — Тут минуты дороги, я не спал пять ночей! Умоляю вас, скажите, может быть, можно его как-нибудь найти?
— Я говорю вам, что он уехал, — торжествующе проговорил голос, и связь прервалась.
Все было кончено. Можно, конечно, искать другие нити, но все они вели в никуда. Сама судьба говорила Крастышевскому, что мир спасти нельзя, что чума начнет первой, и тогда уже никакого другого финала не вырисовывалось. Миру предстояло погибнуть, доказав перед этим полную, безоговорочную заслуженность погибели.
И тогда Крастышевский решился выкинуть на стол свой последний козырь.
Тут надо объяснение. А впрочем, не надо никакого объяснения. Как всякий человек, долго и целеустремленно над чем-нибудь работавший, он давно понимал, что мир не просто так, что мир не сам собой, что мир есть почерк, и почерк указывает на акт творения. Были не только люди и не только верховный творец, вот что важно помнить, — были медиаторы, посредники вроде Лени. У них был свой язык, остатки которого растворены в древнейших языках земли, например в санскрите. Санскрит Крастышевский знал в тех пределах, в каких понадобилось бы объясниться с первым встреченным носителем языка, если бы существовала та вымечтанная Индия, где говорили бы на санскрите. Этот язык был не выдуман, а спущен с небес. Фонемы имели там собственное значение. И Крастышевский задумал обратиться ко всем медиаторам — к Вестникам, как принято было их называть, в час, когда Вестники слышат. А именно в три часа утра. Разговаривать с Вестниками надлежало на высоком, открытом пространстве. Проникнуть на крышу по пожарной лестнице не составляло труда. Крастышевский стоял над городом, прозрачным и спящим. Начинало светать. Воздух был тесен от запахов и вестников. Вестники стремились к запахам. Редко выпадало им обонять над этим городом что-то столь прекрасное, все больше зловонный пот, пот ужаса и вины. Но теперь они торопились насытиться благовониями жасмина, и черемухи, и уже отцветающей сирени, и только готовящейся к цветению липы. Темно-голубой и даже черно-голубой воздух окружал Крастышевского, и он заговорил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу