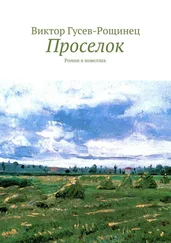Мы сидели вокруг Вани в сладкой расслабленности, какая охватывает после обморока или припадка эпилепсии (свидетельствую как врач). Ваня попросил включить телевизор. И тут случилось не то чтобы неожиданное, а просто нечто, подтвердившее лишний раз: пришла беда отворяй ворота. Мой муж математик называет такие вещи «сингулярностью в потоке событий». Я же, со своей стороны, склонна рассматривать подобного рода случайные совпадения, особенно если два несчастья следуют одно за другим, как встречу с судьбой. Да будет позволительно мне прибегнуть к сей утешительной красивости. Когда стихийное бедствие направляет на вас свой мрачный взор, ему, должно быть, трудно отвести его.
Итак, мы сидели вокруг мальчика, а телевизор там бубнил вполголоса что-то невнятное, пережёвывал обычную жвачку. И вдруг Антон с криками «Папа! Папа!» бросился к экрану, и мы услышали усиленный теперь до предела голос Мити. Бородач с зелёной повязкой на лбу говорил что-то о мести – отчаянная девица-репортёр интервьюировала чеченских боевиков. Мы застали самый конец, но этого было достаточно: наши подозрения подтвердились. И, как это обычно случается с подозрениями, став действительностью, они на какое-то время оглушили нас всех. Новость, похоже, не смутила одну Тамару. Она встала и вышла за дверь, а через минуту мы увидели в окно, как она удаляется с чемоданчиком в руке по дороге, ведущей к автобусу. Раньше это называлось «уйти по-английски».
Когда к нам вернулось утраченное на мгновение чувство реальности и прежде чем мы погасили это глупое честное око, наслав на него бельмо, оно ещё успело метнуть в нас маленькую порцию неизбывного абсурда, весело сообщив, что наша киска купила бы вискас.
«– А я, – и голос его был спокоен и нетороплив, – хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами».
(В. Шаламов, «Надгробное слово»)
Ему снилась женщина.
Пробуждение было радостным, сладким.
Он обнимал её. И уже выйдя из сна и погружаясь в пучину реальной тоски и страха, и мучительного бессилия, он чувствовал под пальцами бархатистую гладь её кожи и всё повторял и повторял движение – пробегал, едва касаясь ладонью, от ключиц через двухолмие груди, живот, замирал на мгновение у врат, но боясь войти, переваливал через крутизну бедра и успокаивался в расщелине ягодиц.
Просыпался рано. Шёл в туалет, возвращался, ступая как можно тише, снова ложился. Не хотел до света будить мать с отцом, спавших в проходной комнате. Неуклюже зарывался в одеяло в надежде вернуться в сон, к женщине, которую любил не видя, но так явственно осязал, что мог бы вылепить, вероятно, точную копию, если б это могло придти ему в голову. Но лица её он никогда не видел. Во сне мы всегда видим только суть, а суть женщины – её тело. Это была незнакомая и оттого ещё более притягательная возлюбленная.
Светало. Милосердная ночь сдавала позиции нехотя, отступала крохотными шажками: серебрила зеркало, ловящее первый свет, потом очерчивала знакомые силуэты – шкаф, письменный стол, книжные полки, и когда уже не в силах дольше тянуть свою колыбельную, падала за окно, подгоняемая жестокими ударами солнца.
Входила мать – помочь одеться. Потом они завтракали на кухне, все вместе, как это старались делать всегда, сколько он помнил себя, с детства. Отец говорил: семья укрепляется совместными трапезами. У них была крепкая семья. Сестра, за время его отсутствия перебежавшая из подроста в девичество, стала совсем другой, он не узнавал в ней ту, которая с утра до вечера щебетала о своём, то и дело заливаясь беспричинным смехом – от счастья быть. За два года она переменилась неузнаваемо, всё больше молчала, на вопросы о школе, об отметках отзывалась нехотя, преодолевая видимое отвращение к тому, чем заставляли её там заниматься. Он с удивлением думал, что в его время, не будь этой ненавистной «общественной работы», пионерских, потом комсомольских «дел», то школьная жизнь была бы даже приятной. Теперь это осталось далёким затерянным миром. Только его старые учебники, заботливо сохранённые отцом, иногда пробуждались упрятанной в них частицей души, и он будто проваливался в то прошлое, которое странным образом подготовляло его теперешнюю жизнь.
Он был примерным учеником. Не выдавался чем-то в завладении азбучными школьными истинами, не старался отличиться в олимпиадах, но математику любил и занимался ею по влечению сердца, а не с целью единственно прагматической. Он бы и поступил в институт, и всё бы пошло иными путями, не окажись в тайнике внезапно распрямившегося, до боли стиснувшего желания – стать не просто студентом, но – «физтеховцем». Мотался в Долгопрудный, сдавал документы, потом экзамены, с первого захода не проскочил, от этого ещё больше разгорелся и выстроил безукоризненный, безотказный, посчитали все, план «повторного приступа». План истинно русский, полувоенный, стоящий на очевидности: самый короткий путь к цели – не самый прямой. Одним словом, надо было послужить в армии, чтобы заиметь льготы при поступлении. Родители, впрочем, отговаривали, приводили устрашающие примеры, мать даже плакала, но сломить упрямство – дурацкое, теперь он обычно припечатывал, – было им не под силу. Ещё говорят ведь: не так страшен чёрт, как его малюют.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу