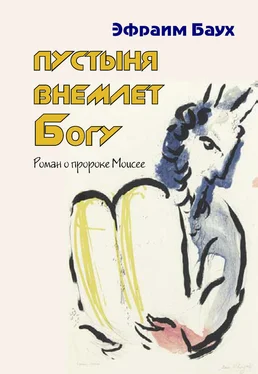Как я уже подчеркивал, мастерство писателя делает зримыми – воспринимаемыми как лично знакомые нам – поступки и мысли едва ли не всех персонажей романа.
Значимость исторических и художественных открытий, пластичность описаний, умение мощно зачерпнуть живой воды в божественно испепеляющей сухости пустыни – это делает роман незаурядным явлением современной мировой прозы. Думаю, и вся семилогия еще ждет своего открывателя – критика ли, читателя, – истинного ценителя настоящей литературы.
Самуил Маршак часто цитировал лермонтовское четверостишие, которое считал одним из самых замечательных в мировой поэзии:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
«Четыре строки, но сколько в них сложнейших человеческих чувств, душевных состояний: одиночество и единение с целым мирозданием, надежды и потрясения счастливейшей возможностью вместе с пустыней внимать Господу!» – так не раз говорил Самуил Яковлевич.
И вот одна из четырех бессмертных строк стала именем романа, с нее он обретает свой путь…
Анатолий Алексин
1. Воды многие
Вечер предчувствуется пепельным успокаивающим светом неба. Море сизо-серое, нешумное, потрясшее шумеров, море филистимлян, море Эллады и Рима, море, впервые представшее прохладным сверкающим чудом взгляду иудейских колен, вышедших из раскаленного горла аравийских пустынь, – море отступило, обнажив лежбища черных базальтовых скал, покрытых ядовито-бархатной зеленью мха и водорослей, скал, подобных стадам морских чудовищ, погруженных в спячку.
Пляжи пустынны.
Редкие фигуры перебрасывают ракетками мяч.
Лаконично-костяной звук виснет в охваченном январской дремой воздухе. На плоско-пустынных пространствах берега, моря, далей – группки людей, одетых по-советски (слово уже исчезает из обихода), отчужденные от этих пространств и друг от друга; и только собачки, привезенные с тех скифских земель, носятся по пустынному пляжу явственной связью между группами.
На утоптанном песке у кромки моря ватага упитанных толстяков играет в футбол.
И в противовес им вдали – словно бы стремительно и легко обведенные линией Дега, на грани реальности и иллюзии – три лошади, три всадника, и в их случайных произвольных движениях – тайная свобода жизни.
И всегда это пространство, вечером или на холодном рассвете с невысоким слабым солнцем за облаками цвета тусклого непротертого жемчуга, среди которых проступают полыньи голубых небесных вод, кажется отчужденно прекрасным и влекущим вопреки настороженно замершему во плоти инстинкту самосохранения – переходом в иные, летейские поля, в иной ожидающий нас мир.
И миг этот с такой легкостью и естественностью приобщается к редким, лучшим, глубочайшим мгновениям долго прожитой жизни…
Воды многие – 
Чад прибоя, примусный гул плитчатых волн. Чернь. Червление. Ветошь, обдающая камни пеной, вмиг набирает лунный свет, озаряет песчаный откос и падает на него высыхающими клочьями.
Опять на миг и навечно в беге моей жизни рождается миф плетется из мелочей, протягивается через тысячелетия, чтоб вновь – который раз – никем не схваченная, не закрепленная в словах – истерлась из памяти повесть, втягивающая в себя были, идущие по воде с низовым ветром с Ионического моря, с великой Дельты, с Крита и Родоса, Олимпа и Трапезунда, с Капри, с дальних Ницц и Венеций стоящих так легко и забвенно на большой и плоской средиземной воде Всю суматоху минут и тысячелетий, бормотание дряхлых цивилизаций и клокастый дым отошедших эскадр, замыслы, подавленные в зародыше, и безумие, поворачивающее мир, как корабль, попавший в шторм и потерявший управление, весь мусор и бранчливость голосов, всю дремучую плесень времени несет к этому берегу долгая средиземная волна, aqua mediterrana.
Волны впопыхах срываются с источенных скал – как что-то забыли. Торопь и оторопь.
Мы шли вдоль моря, уходили, вопреки
своему желанию, в беспамятство пустынь
на целое поколение,
нас окружали розы и тернии,
которые не мы растили,
ибо все выращенное нами было из памяти,
более похожей на фата-моргану
и потому не исчезающей из сознания
человечества.
Великие реки, уроженки Запада, текли
под азийскими ветрами,
мелея в меловых берегах,
и море сгущало их в пену,
в молоко, створаживающееся в семя жизни,
в нашу плоть,
и известь, выпадавшая в осадок и возносимая
ветрами, сгущалась в наши кости.
Читать дальше