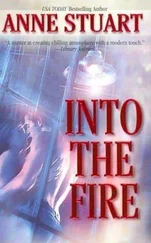— Хорошо. Я займусь этим после Вермонта.
— Ты трусишь, Джулиана.
— Вовсе нет.
Он буравил ее своими черными глазами.
— Ты не боишься сгореть?
— Нет.
— А я боялся, в тридцать лет. Ты этого не помнишь. Ты тогда была еще ребенком и понятия не имела о подобных вещах. Несмотря на все аплодисменты, книги, пластинки, я тогда задумывался, удержусь ли на плаву, когда мне стукнет тридцать пять. Бесчисленное количество молодых пианистов — все равно что бабочки-однодневки, порхают, блистают несколько лет, а затем уходят, и — пуфф!
— Но я не собираюсь уйти и сделать «пуфф», я просто хочу поехать в Вермонт.
— Лишь Богу известно, к кому повернется непостоянная публика, которая все время выискивает новые звезды. Конкурсы выбрасывают на свет божий пианистов все более и более юных. Бремя бытия исполнителя огромно. Ты так беззащитен, так уязвим. И в тридцать лет вдруг обнаруживаешь, что вся новизна куда-то ушла. Ты заработал кучу денег и должен решать, хочешь ли ты и дальше тянуть эту лямку или нет.
— Я никогда и подумать не могла о том, что перестану играть.
— Не могла?
Неясная полуулыбка тронула его губы, он знал, что она лжет. Конечно, она лгала. И в последнее время больше, чем когда-либо в жизни. Но она не могла рассказать Шаджи о том, что по утрам, лежа в постели, размышляет, как сложится ее жизнь, если она откажется от фортепиано, если бросит играть. Что она тогда будет делать? Что она умеет? Она не могла объяснить, как по мере продолжения турне чувствовала себя все более и более опустошенной; не могла говорить о посещавших ее фантазиях, в которых она, исполняя сонату Моцарта, вдруг вклинивала в нее джазовую импровизацию, о своих утомительных спорах с менеджером, желавшим, чтобы она и дальше давала по сто концертов в год и одновременно расширяла репертуар и делала еще больше записей. Она не могла поведать ему о той скуке, которую навевали на нее репортеры, непрерывные путешествия, великосветские обеды, мужчины, встречавшиеся ей. Она не могла признаться, что все это с каждым днем кажется ей все более тоскливым и что она боится, как бы монотонность не проникла в ее рабочую комнату, где прежде ей не было места. Д. Д. слегка скрасила однообразие ее жизни, но она не вечна. И Шаджи нельзя было рассказывать о Д. Д.
Он был прав. Она боялась. Но за девятнадцать лет она ни разу не признала вслух его правоту. Они спорили, боролись, обсуждали, но она никогда не сдавалась, не позволяла себе отступить перед его легендарным авторитетом. Если это случится, думала Джулиана, то она потеряет свою независимость как музыкант и как человек.
— Меня не беспокоит, как остаться на плаву в тридцать пять, и я не боюсь.
Она резко отодвинула свой кофе и поднялась, чувствуя одновременно такую усталость, и страх, и бешенство, что у нее все поплыло перед глазами. Какого черта Шаджи не может оставить ее в покое! Зачем ему нужно все время давить на нее?
— Надеюсь, ты будешь счастлив, Шаджи. Ты похоронил мой Вермонт.
— Отлично, — сказал он.
— Гад. Иди к черту.
Она прошла к выходу, оставив ему возможность рассчитаться за обед с выражением полного самодовольства на красивом лице.
Сидя в своем убогом гостиничном номере на Бродвее, Хендрик де Гир попросил соединить его с американским сенатором Сэмюэлем Райдером. Голландцу дали джорджтаунский номер сенатора, и его не удивило, когда Райдер снял трубку после первого же гудка. Хендрик предупреждал его, что позвонит ровно в девять.
— Ну, что скажете? — спросил Райдер.
В аристократическом голосе молодого сенатора Хендрик уловил напряжение, но это не доставило ему удовольствия.
— Я встречусь с вами в субботу вечером в Линкольн-центре. — Он прекрасно, с едва различимым акцентом говорил по-английски. К голландскому он прибегал только при крайней необходимости. Это был язык его прошлого. — После концерта. Вы будете на машине?
— Естественно.
— Ждите меня там.
— Хорошо. Но позаботьтесь, чтобы эта Штайн не увидела вас.
Хендрик прикрыл глаза — всего лишь на секунду — и ощутил захлестнувшую его боль. Штайн… Рахель . Но он отогнал воспоминание.
— Я не нуждаюсь в ваших инструкциях, сенатор, — ледяным голосом произнес он. — Блох, надеюсь, ничего не знает?
— Неужели вы принимаете меня за дурака?
— Да. Вы, сенатор, говорите людям то, что они хотят слышать. Я это знаю. Смотрите, не проболтайтесь Блоху. Понятно? Иначе, друг мой, у нас с вами ничего не выйдет.
Читать дальше