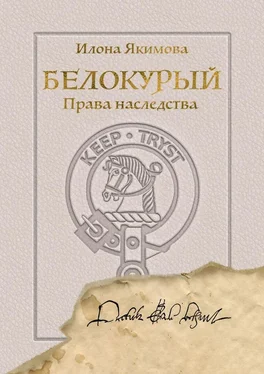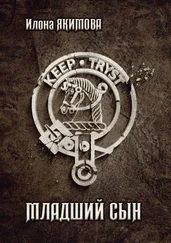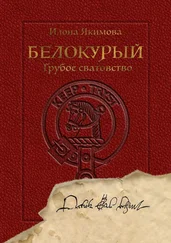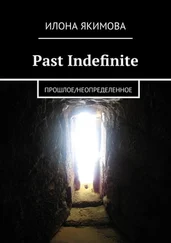Лорды держались достойно, однако пехота стала сдавать, когда войска Суррея приблизились – в полном молчании, под продолжающийся гром пушек. Пошел дождь, лица, обращенные к врагу, к горизонту, повлажнели, тем самым скрывая слезы страха – у некоторых. Тишина была хуже всего остального. У молодых ребят, кому мясническая работа в новинку, подгибались колени от ужаса неотвратимой гибели, ибо в бою, всем известно, выживут опытные. Через пять человек позади от графа Босуэлла кто-то тяжело блевал, потом стало слышно еще одного счастливчика, потом над строем поплыл острый запах мочи, рвоты, кала… то была эпидемия страха, передающаяся среди парней по воздуху – чем ближе подходил Суррей. Земля вспаханного поля скользила под ногами, и падали на колени, в грязь, и поднимались снова, опираясь на древки пик. Зловонный пот ужаса пропитывал исподнее. Всхлипывая, слева начал молиться какой-то мальчишка… стой, просто стой и жди, когда раскаленное пушечное ядро придет по твою душу, вырвет из строя сразу нескольких товарищей, оставив вместо них кровавое месиво.
– Заткните их, – велел сквозь зубы командир авангарда.
– Как? Они боятся…
– Как?! Волынщиков – в третью линию, да пусть жарят так, чтоб ссались уже англичане, не наши! А наши пусть поют. Когда поешь – блевать несподручно. И бояться здесь совершенно нечего… Дядя Джордж?
– Объявите по войскам: каждый, кто падет сегодня в сече с англичанами, отправится прямиком в рай, – отвечал Джордж Хепберн, епископ Островов, любовно поглаживая рукоять палицы. – В том мое слово.
И наклонился с седла к островитянину, повторяя ему то же на гэльском, посылая донести до остальных. Перекрестил племянника:
– Встретимся в бою, Адам, благослови тебя Бог…
И направился к своим чадам, туда, где Джон Ковдорский, поминая святых и дьяволов не божьим словом, разворачивал строй к битве. Горцы Аргайла клином разомкнули приграничников, вырываясь вперед – пешие, с боевыми молотами, с клейморами наготове. Они стояли ровно за людьми графа Босуэлла, они так же молча пошли в бой на пехоту Суррея – но в последние полмили до сшибки вдруг кто-то из них в первом же ряду завопил:
– Я – Дональд Дубх, сын Колина Мора, сына Шона, сына Ангуса…
И эту родословную подхватили, и пели, и орали – каждый свое, перечисляя предков, словно любой из названных мог воплотиться, и вот сейчас вслед за потомком метнуться на сассенахов… И так поле Флоддена затопил, кроме стона волынок, воя труб и пушечных разрядов, соединенный рев островитян на хайленд-гэльском, в котором раздавалось, если прислушаться:
– Я – Рори, сын Дональда, сына Йана, сына Аластера…
– Я – Алпин, сын Гиллеспи…
– Бреннан, сын Кормака…
Они, прежде, чем врез а лись в мясо противника, доходили в памяти своей до двадцати колен в прошлое, и там обретали силу и ярость, которая не снилась англичанам, и пехотинцы Суррея замешкались, ошеломленные, только лишь на мгновение, но и того достаточно было, чтоб горцы нашли брешь в их строю, вломились туда всем числом, расширили пробоину, хлынули несметно…
– Данмангласс! Лох-Мой! Лох-Файн! – витало надо полем.
Они вспоминали, кто они, откуда родом, где живет племя, почему вожди привели их сюда, на далекий юг, сражаться и умирать. За ними наконец вступили и остальные:
– Уордлоу! – это рейдеры Максвелла. – Остановись и сражайся! – горцы Гордона Хантли. – Никогда позади! – короли долин Дугласы.
А за ними пошли в бой двадцать линий батальона самого короля Джеймса IV Стюарта. Англичане дрогнули – и побежали. Господь в те часы был на стороне Шотландии.
Адам Хепберн, второй граф Босуэлл, на белом жеребце, уже в помятом доспехе, в гуще боя был виден издалека, «Босуэлл!» парило над полем, «Иду навстречу!». Рука его разила без промаха, копыта коня увязали в раскисшей глине, дождь все продолжался…
А в замке Хейлс Агнесс, молодая графиня Босуэлл, в тоске ждала новостей.
Адам вернулся через десять дней. И с ним – Джейми Стюарт, лэрд Треквайр, ее старший брат. И если Адам казался просто спящим до тех пор, пока она не сняла плаща, прикрывавшего изрубленное тело, то левая половина лица любимого брата была чудовищно изуродована ударом английского палаша, и только одна рана цвела на груди, огромная, как ее одиночество, глубокая, как ее отчаяние… Флодден – это холодное слово обезглавило страну. На том ледяном поле по колено в собственной крови умирали шотландцы за верность Старинному союзу, и первым, высшим из них погиб сам король, Джеймс IV Стюарт. Его тело отбили сассенахи, его окровавленная рубаха, как изящный презент, была отправлена толстой испанкой своему молодому мужу – и Генрих Тюдор был весьма доволен таким подарком. В плен живыми попали немногие, около двадцати тысяч осталось на поле боя, в грязи, зарубленными, затоптанными конскими копытами и башмаками пехоты. Мародеры обирали тела, слуги выносили мертвых господ, стремясь обеспечить достойное погребение. В каждом доме, в каждой фамилии тогда царило горе несметное, неоднократное… было безопасное, теплое логово в Хейлсе, гнездо, была огромная семья, и вот время кровоточащими кусками выжрало из нее мужчин, опустошило. Время – и англичане. Молодая вдова покачнулась на ногах, побелела лицом и укусила себя за запястье, чтобы не заорать в голос. Годовалый малыш, ворковавший сейчас на руках у няньки в верхних покоях замка, стал сейчас – на счастье или на беду – третьим графом Босуэлл.
Читать дальше