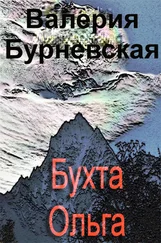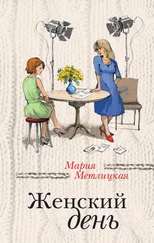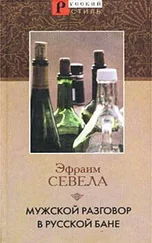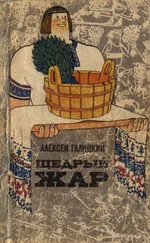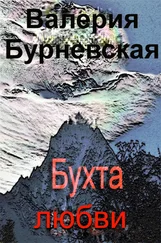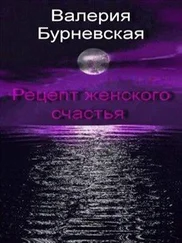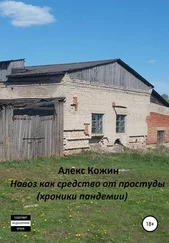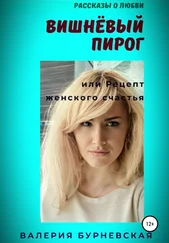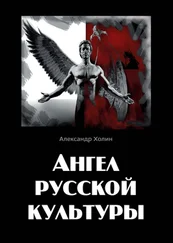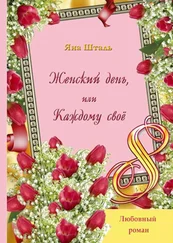Мы же за годы общения узнали все секреты друг друга. (Почти все…) Точнее, у нас нет секретов друг от друга! (Почти…) В результате такого total общения мы стали родными людьми. По интонации голоса, по мимике, по жестам – по крупицам – мы ощущаем малейшую смену настроения, чувствуем боль и знаем, когда одной из нас нужна помощь. В таком случае, мы собираемся и помогаем: кто добрым словом, кто советом, а иногда просто даём возможность выговориться. Правда, в последнее время этой возможностью стала злоупотреблять Наташа.
Она всегда – сколько себя помнит – мечтала стать учителем. В далёком детстве Наташа смотрела передачу «Что? Где? Когда?». Ей нравилось наблюдать за волчком, с его лошадкой и жокеем внутри, которые преодолевали препятствия. Повзрослев, она любила следить, как взрослые дяди в смокингах с вдохновением щёлкают, как орешки, заумные вопросы. Когда же она выросла, ей стали нравиться сами умные дяди. На вопросы подруг о том, что её так привлекает в этой передаче, Наташа отвечала: «Они все такие умные, в них столько энергетики! И еще в этих смокингах они очень сексуальные!».
Просмотры высокоинтеллектуальной передачи не прошли даром: она много читала, хорошо училась, и после школы поступила в педагогический институт, на факультет иностранных языков. Поступить именно на этот факультет ей посоветовала мама. Главным аргументом для неё стал: если Наташе не понравится работать в школе, она сможет пойти работать переводчиком. А лучше сразу – переводчиком. Основным языком у неё был английский, вторым – французский, третьим – испанский.
После окончания ВУЗа Наташа устроилась работать переводчиком. Первые пять лет ей импонировали гибкий график, её востребованность и постоянная боевая готовность к переговорам в любое время суток. Наташа вышла замуж за хорошего парня по имени Алёша, с которым познакомилась на переговорах. У него был вполне успешный бизнес по производству деревообрабатывающих станков. Семейная жизнь захватила целиком и времени на любимую работу не оставалось. Да и на семью времени уходило всё больше. Кроме того, муж (теперь уже бывший) стал устраивать сцены ревности по поводу её деловых вечерних переговоров в ресторанах (старая добрая западная традиция). Во время кризиса её фирма – как и многие совместные иностранные предприятия – закрылась. Поэтому, последние пять лет Наташа преподавала иностранные языки в гимназии для одарённых детей. Гимназия находилась недалеко от её дома (сколько времени экономилось на дорогу!). Поначалу ей нравилось работать в школе, несмотря на вечные перестройку, инновации, частую смену министров, пересмотр методик в образовании, не говоря уже об учениках и их родителях.
Директор – пожилой интеллигентный и импозантный мужчина, знающий всех детей и родителей по имени и фамилии – относился к Наталье с трепетом и всячески ей благоволил. Но три года назад старый директор гимназии ушёл на пенсию и вместо него директором назначили невзрачную амбициозную тетку средних лет, с явными замашками тирана по отношению к подчинённым – в основном красивым симпатичным женщинам. Козни, репрессии и буллинг были основными методами работы, при полном попустительстве по отношению к ученическому контингенту. С тех пор Наташа находилась в постоянном шоке и длительной душевной прострации от деяний и высказываний директрисы. В этом – стервозная и острая на язык – директриса «соревновалась» не только с учениками (порой переплёвывая их), а также с их эпатажными родителями.
«Школа абсурда!»
Так называла Наташа свою гимназию.
Каждый раз, при встрече с нами, она делилась новыми байками под общими названиями «Отрывки из жизни продвинутой «золотой молодёжи!» или «Выходки экзальтированной директрисы!» – коими та шокировала не только персонал и педсостав, но и учащихся (а уж современное поколение «Тiк-тоkа» трудно удивить, не правда ли?)
Наташина гимназия была наполовину государственной (дотационной), наполовину частной (осуществлялись законные целевые сборы денежных средств). Поэтому там учились одарённые дети и простых смертных, и чада обеспеченных родителей. Последние, кстати, звёзд с неба не хватали. А зачем? Их пребывание в стенах этого храма знаний обеспечивалось деньгами богатых родителей. Такой сплав учебного контингента приводил к постоянным классовым распрям, не только среди учащихся, но и среди родителей и учителей. Капиталистическое высказывание «деньги-товар-деньги» можно было перефразировать в «деньги-знания-деньги»: родители платят за качественное образование в надежде, что в их чада впихнут прекрасные знания, которые со временем принесут высокие заработки. Но, как говорится: если вам дали хорошее образование, это не значит, что вы его взяли. Немногие умные родители понимали, что не всё зависит от педагогов. Нужны ещё правильная мотивация со стороны детей и, конечно, способности к знаниям. Некоторые родители этого не понимали и пытались даже подкупить учителей, чтобы их сына или дочь послали на олимпиаду или поставили хорошие четвертные и годовые отметки. В этом клубке из амбиций и проблем внутреннего роста и проводила (скорее прожигала!) свои лучшие годы Наташа.
Читать дальше