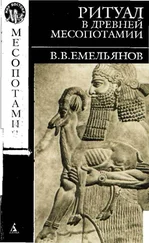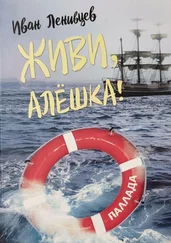1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 смешки, перебранки и слёзы, и боль,
горчичные пальцы курителей старых,
горчащие губы куривших девиц,
разбойные нравы подростков и малых,
бредовые речи, поступки тупиц,
и вниз со столба обнажившийся провод,
музеи бутылок на полках витрин,
нечищеный, мятый, хрущёвочный город,
трудяги бесправны, тоска меж рутин,
быт нищенства и безработное иго,
повесился автор, а после и чтец…
Бессменное чтиво провинции тихой.
Тут личный и общий, бессчётный пи*дец…
Окружённый
Вновь шаркают сверху уставшие ноги,
а сбоку, за стенкой, одна лишь нога.
Имеют они зуб, претензии к Богу,
к инстанциям, случаю, року, богам?
Под полом то тяжкие вздохи, то стоны,
позднее – удар, будто смерти топор,
а после – молчания, двери без звонов,
потом одинокий, двойной разговор.
За третьей же стенкой скрипенье кровати,
откуда доносятся крики и вой.
За пятым щитом отголоски проклятий,
порой раздаётся бутылочный бой.
За кухонным блоком тараны в обои,
над спальнею вмятина лобных молитв,
над крышей балкона следы от запоев,
над ванной подтёки – кровавый залив.
Хоть много я знаю про боли, уродов,
про бедные жизни, калек, стариков,
но всё же ропщу на еду и погоду,
хотя я свободен и цел, и здоров…
Кавказочка
Смолистый поток облучает впервые,
вонзаясь лучами сквозь рытвины сот,
легко проникая чрез очи и выю,
меня превращая в любовную плоть.
В жару и в прохладу он истинно льётся,
влечёт, освежает и учит с теплом.
Ах, как он волшебен! Ах, как он зовётся?
Откуда он прибыл со светом, добром?
Течёт и умело в узор облекает,
втекает, как вольный ручей под валун,
песчинки так смело, прозрачно вращает,
как точит скульптуру и идол средь лун.
Волна эта – мрачная дочка Кавказа.
Мне встретилась дивно и явно не зря.
Меня отыскала намётанным глазом.
Теперь же ваяет Аллаха, царя…
Лагерный быт
Ах, раньше мы были среди детворы,
свободы и жизненных красок!
Теперь окружают конвой и воры,
враги пролетарского класса.
Теперь к нам пришили вину, номера,
сидим за колючей оградой,
пристыла к холодной тарелке еда,
средь бело-колымского сада.
Нас суд заклеймил и позором облёк,
одев в кандалы, безнадёжность,
в бушлаты, бараки, в колючий лесок,
в рутину и пот, и бездолжность.
От диких морозов аж брёвна трещат.
Наш труд непосильный, с измором.
Из этого ада не выйти назад,
ведь двадцать пять лет приговора.
Арену Ананяну
Миряне и военщина
Чужих детей под нож врага,
навстречу дулам пулемётов.
Заброс в болота, жар, снега,
под бомбы тысяч самолётов.
Отправка прямо на штыки
на бойню, в рубку, под обстрелы,
на фронт, где роты и полки,
где пули, взрывы мчатся в тело.
Отсыл в любое поле, сад
без дум и совести, укоров.
Билет в один конец и в ад,
как дача общих приговоров.
Издав любой закон, резон,
сведут на казнь рабочих русов,
как приношенье жертв в сезон,
какие Молоху по вкусу.
Военный клич, святой приказ
из затрибунной старой пасти
отправит за один лишь час
в кровавый бой во имя власти.
И этот старческий посыл
устроит явь присяг и стрельбищ,
в которых чей-то муж и сын
отцом не станет ради зрелищ…
Арену Ананяну
Кабацкое тело
Фигура моя уж не храм белостенный,
а грязный, зловонный, угрюмый кабак,
что липкий, просаленный, мутно-безмерный,
в котором разруха, крик, слёзы и мрак.
В похабных рисунках, в помятом убранстве.
На полках и в кассе сплошной недочёт.
Сочится мочою и рвотою в пьянстве.
Из окон, дверей постоянно течёт.
Он сам, будто ад. Сам себе винокурня.
Он полон тоски, угнетенья, потерь.
Прибежище мальчика, лирика, дурня,
в котором несчастья, унынье без мер.
В нём нет тишины и любви или чести,
но много похабщины, злобы, посуд.
Запойное, злачное, горькое место,
какое однажды закроют, снесут…
Черепки – 35
Он пренебрёг сыновьим долгом
в своей природе и мечте,
забыл устав природы, Бога,
став буквой из ЛГБТ.
***
Тату, как граффити и акт вандализма
на стенах собора, в котором душа,
как рабские клейма на лике царизма.
Поэтому царским телам не нужна!
***
Способна решить все дела и проблемы,
унять тоскования в разных местах
и вмиг погасить расхожденья, укоры
святой миротворец, спаситель – пи*да…
***
Тут люди давно уж творят неприличье.
Девица и трое вспотевших мужчин.
Читать дальше