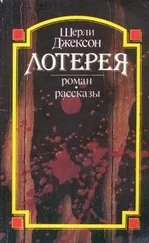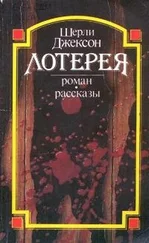— Это почему же, Роджер? — спросил Уильям.
Роджер Эйнсворт шлепнул на прилавок кипу журналов и газет.
— Твои. — Он достал отложенную отдельно «Трибюн», поднял, молча показал.
— Тоже мне? — спросил Уильям.
Эйнсворт кивнул. Люди выжидающе подались вперед. Скрипнул плетеный стул, скрипнула половица. Громко щелкнула у кого-то на зубах каленая кукурузина.
— Ну и что? — сказал Уильям.
Эйнсворт объяснил:
— Вроде бы ты до сих пор не имел привычки читать, что печатают янки.
— Это дочке захотелось, — сказал Уильям. И, чтобы не получилось, будто он прячется за спиной у девчонки, прибавил громче: — Но я полагаю, что буду почитывать и сам.
Позади раздался шорох, словно все разом перевели дыхание. Уильям сгреб свою почту.
— Роджер, — спокойно проговорил он, — знал я, что ты осел, но не думал, что до такой степени.
В дверь мячиком вкатилась прыткая низенькая толстуха Марайя Питерс и подскочила к прилавку.
— Три открытки, Роджер, — сказала она. И прибавила: — Ты что это, словно муху проглотил.
— Нет, до чего иные люди легко становятся предателями, — мрачно сказал Роджер. — Не поверишь даже, что у них родного деда убили на войне.
Уильям хмыкнул и с усилием вытянул газету из-под пальцев Роджера Эйнсворта.
— Во-первых, не родного, а двоюродного. А во-вторых, никому не известно, рад он был или нет отдать жизнь, хотя бы и за общее дело. — Он задумчиво встряхнул кипу газет. — Мне лично думается, он при этом не испытывал особого блаженства. Он сгорел заживо в Уилдернесской чаще, а я видел лесные пожары и знаю, что по доброй воле туда никто не полезет.
Он повернулся к выходу и заметил, как перед самым его носом в дверь прошмыгнул Эрнест Франклин и торопливо заковылял по улице растрезвонить последнюю новость. Он был стар и страдал артритом и, точно вспугнутый краб, раскорякой спешил к веранде гостиницы «Вашингтон». Поднялся по ступенькам, хватаясь за медные перила, и скрылся за плотно оплетенной вьюнком решеткой веранды.
Рассказывают, что Уильям Хауленд остановился посреди главной улицы, по щиколотку в сухой горячей пыли, и разразился хохотом. Люди высовывались из дверей фуражной лавки Эйнсворта и не могли понять, то ли его хватил солнечный удар, то ли спивается человек втихомолку и вот помешался. Наконец он отер слезы большим голубым носовым платком, досуха вытер щеки, подбородок и без улыбки поглядел в их сторону. Он поглядел на ряд голов, на возню и толкотню — те, кому сзади было не видно, напирали и протискивались вперед — и очень громко, очень внятно сказал:
— Ну и сукины вы дети!
Беззлобно так сказал.
Городишко проглотил обиду не сразу. Люси Уитмор — ее голова тоже торчала в то утро из дверей фуражной лавки — даже раздумала было звать его на свадьбу своей дочери. Когда, эдак с неделю спустя, Уильям встретился ей на улице, Люси держалась с ним суховато: пусть знает, что она почти решила не посылать ему приглашение, только ему одному во всем городе, да еще младшей дочери Лайксов, которая вышла замуж за католика, венчалась в католической церкви, и теперь с ней никто не разговаривал, хотя все любили ее родителей — она сейчас жила у них в ожидании первенца. Уильяма, казалось, лишь забавляли церемонные ответы Люси Уитмор. Он осведомился, как поживает ее дочь, синие глаза его при этом лукаво поблескивали, смеялись.
— Ну, как она? Как молодой муженек?
— Они еще не женаты, — сдержанно ответила Люси.
— А-а, понимаю, — мягко заметил Уильям, — главное сперва, а прочее во благовременье. — Он кивнул и зашагал своей дорогой.
Люси Уитмор пошла дальше, с негодованием думая о дочери и яростно твердя себе, что другого и ждать нечего, когда у тебя в семье играют свадьбу, чтобы покрыть грех. И решила, что Уильяма Хауленда, несмотря на его грубые намеки, не позвать нельзя.
Городок не умел долго сердиться — особенно на Уильяма Хауленда. Ну, не пригласили, против обыкновения, на ужин к Фрейзерам в первое воскресенье месяца. Ну, к Петерсонам не позвали, когда приехала погостить их родственница из Лафайета. Но его это как будто не трогало, родственницу же не успели первый раз повезти собирать ягоды, как она угодила в жгучие заросли ядовитого сумаха — и, кстати, не где-нибудь, а в хаулендовом лесу.
Недели через две все пошло по-старому. Не то чтобы случай с «Трибюн» забыли или забыли это насмешливое «сукины дети» в жаркой тишине пыльного утра… Просто ничего не могли поделать, прибавилось о чем посплетничать на его счет, и только. Как-никак он оставался самым завидным из местных женихов, и непонятно, почему ему так нравилось растить дочь в одиночку. Не было человека в округе, который не ломал бы голову над этой загадкой; немало находилось и таких, кто пробовал найти ей решение. Правда, к этому времени Уильям Хауленд был уже в годах, но все равно за него пошла бы любая вдова и любая разведенная, и даже очень многие из молоденьких девушек на выданье. С виду он все еще был мужчина хоть куда, только усы сбрил и волосы стали редеть. А главное, он был Хауленд, чистокровный Хауленд — самый почтенный род в округе, лучшие земли, самые большие деньги.
Читать дальше