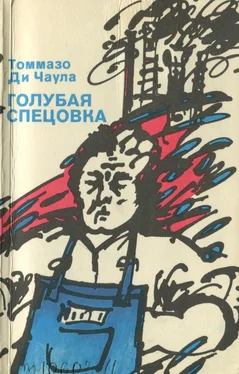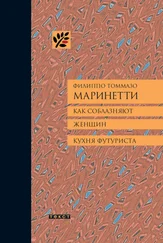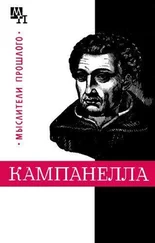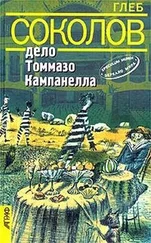Есть у меня недостаток, а может, и достоинство: я подчеркиваю в газетах наиболее интересные места. Вот и сейчас держу в руках газету, где на каждой странице по меньшей мере две-три статьи, сплошь подчеркнутые. Нередко убеждаю себя: чего ради прочитывать все газеты до конца, ведь безобразия от этого не прекратятся? Но случается, купишь газету, прочтешь о чем-то совершенно новом для себя и подумаешь: черт, не напрасно купил. Должны же мы знать, что там порешили над нашими головами и до каких пор горстка оглоедов будет плевать нам в морду. Задаю себе вопрос: а сколько людей прочитало эту газету? И какое право имеют те, кто не прочитали, голосовать, что-то решать и вообще жить?
Несчастные случаи на производстве в Италии больше не поддаются счету. Один специализированный еженедельник проанализировал состояние дел в Неаполе со следующими результатами: в 1974 году на производстве от несчастных случаев погибло 105 человек, в 1975-м — только 79; смертность упала, но подскочило число несчастных случаев (с 40 476 до 42210). Любопытная вещь получается: цифра 40 000 несчастных случаев в год означает, что 5 процентов трудоспособного населения имеет ранения и травмы, пусть даже легкие. Каждая травма, к сожалению, оставляет след; ты уже не прежний — сильный, здоровый человек, а покалеченный, подпорченный. Люди рождаются здоровыми, но собачья жизнь, к которой нас принуждают, ломает нас и корежит. Если так дело пойдет и дальше, то армия трудящихся превратится в армию инвалидов. Кого тогда хозяин поставит к станку?
Воспользовавшись свободным утром, навещаю мать. Пообедаю у нее и прямо оттуда — на завод, в вечернюю смену. От Модуньо до завода хоть пешком дойдешь, но от Адельфии почти 20 километров, и нужно делать самое меньшее одну пересадку. Застаю мать на кухне, такой же серой, как апрельское небо в эти дни. Мать жалуется на ревматизм, проклиная все сырые жилища, где она обреталась по воле отца-карабинера, который переезжал из деревни в деревню по всей области. Я вспомнил сначала дом неподалеку от Лечче (в Арадео) сразу после войны, когда мы уехали из Дольяни. Вернулись на Юг, выплакав все слезы: в дороге у нас украли сундук с вещами. Тот дом я хорошо помню, словно прошли не годы, а месяцы. Я страшно боялся ветра, который продувал террасу, потому что сразу же начинало хлопать белье, дребезжали деревянные жерди, на которых это белье висело, гремели какие-то жестяные банки. Ужасный был дом!
Во время бури по дому гулял ветер с дождем. Нередко, призывая всех святых и чертей, мы двигали по комнатам тяжелую мебель и громоздили друг на друга буфеты, столы, стулья, загораживая двери, чтобы не распахнуло ветром. Мать уже тогда жаловалась на ревматические боли. Но в солнечные дни бывало весело. С помощью зеркальца мы пускали зайчиков и высвечивали самые темные закоулки под лестницей. Зайчик достигал всех окрестных домов, светил в окна, на террасы. Еще я любил играть с мыльными пузырями. Мыльную воду таскал у матери, гнувшей спину над грудами затхлого белья. Она злилась, звонко хлестала меня мокрыми руками, а я ревел, закрывая лицо руками от ударов. Мой отец всегда носил при себе служебный пистолет. Отец у меня суровый, жесткий человек. Веселый на людях и грозный дома, он всегда считал меня, а может, и сейчас считает, олухом царя небесного. Чем больше он обнаруживал, что я сверх меры чувствителен и романтичен, тем больше тумаков сыпалось на мою голову, даже если я ни в чем не провинился.
Например, летом, если во время послеобеденного сна в самую жару сестра с братом ссорились и дрались подушками, а я тихонько лежал себе на боку, отвернувшись в сторону, и о чем-нибудь мечтал, отец, вместо того чтобы отлупить виновных, кидался прямиком ко мне и драл меня что есть мочи. По воскресеньям, когда мать уходила к мессе, он ловил меня, словно кролика, и давал выволочку без всякой причины. А перед возвращением матери он тащил меня к раковине и смывал кровь с моей физиономии. Кто знает, почему я до такой степени был ему ненавистен; вероятно, он не мог простить мне случая, который произошел еще в раннем детстве. Шла война, мы жили в Дольяни, отец партизанил, скрываясь в лесах. Однажды ночью у матери начались схватки (она была тогда беременна моей сестрой), и ему удалось, рискуя жизнью, пробраться в дом; и вдруг облава, наши заметались, спрятали отца в подпол. Мать, лежа в постели, дрожала как осиновый лист. Вооруженные немцы вломились в комнату. Я-то видел, как отец лез в погреб, но думал, что это игра, и потому затянул: «А папка спрятался, папка спрятался, папка спрятался…» Хорошо, что те немцы не понимали по-итальянски. Они засмеялись, указывая на живот матери: «Маленки?», — с тем и ушли.
Читать дальше