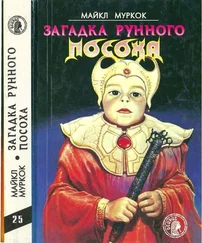— Ты, Феликс, уже достаточно взрослый и рассудительный мальчик, и поэтому я могу сообщить тебе бесконечно грустную весть. Твоя мать никогда больше не вернется домой, твоя мать умерла.
От печальной торжественности этих слов доктор побледнел еще больше и сильно стиснул руки ребенка, желая удержать его от бурной вспышки горя. Но неопытная душа Феликса не могла постичь всего значения этой вести. Он понял только, что в доме происходит что-то необычное, и опустил голову. Доктор продолжал:
— Завтра ты скажешь домнулу учителю, что больше не будешь ходить в школу. Ты поступишь в пансион.
Всю ночь Феликса терзало гнавшее от него сон, неведомое ему раньше беспокойство. Это было не горе в прямом смысле слова, не страх, а тревожное ожидание чего-то неизвестного, которое охватывает человека накануне отъезда навсегда в далекую страну.
На следующий день Феликс, с крепом на рукаве, вошел в класс и в ожидании учителя сел, не снимая пелерины, на скамью.
— Моя мама умерла, — объяснил он удивленному соседу по парте.
— Умерла твоя мама? — изумился тот, как будто это событие как-то возвышало Феликса.
— Да.
— У Сима умерла мать! — пискливо объявил сосед всему классу.
Ученики столпились вокруг Феликса, глядя на него с жадным любопытством.
— И ты больше не будешь ходить в школу?
— Нет.
Дети были слишком малы, чтобы испытывать какое-то сочувствие к Феликсу. Их только ошеломила его привилегия— не ходить больше в школу. Когда вошел учитель, скромный человек с изнуренным лицом, вечно подтягивавший свои чересчур длинные брюки, ученики, не дожидаясь его вопроса, объявили:
— У Сима умерла мать!
Учитель взволновался, молитвенно сложил руки и подошел к скамейке Феликса, а ребята, вместо того чтобы разойтись по своим местам, окружили их.
— Что ты говоришь?! Бедный мальчик! Какое несчастье! И ты теперь не будешь посещать нашу школу?
— Нет.
— Я очень сожалею. Какое несчастье...
Уважение, с которым к нему относились окружающие, превратило смутную глубокую печаль Феликса в некую гордость тем, что он является предметом всеобщего внимания. Учитель ласково сказал ему:
— Тебя, верно, ждет отец. Передай доктору Сима, что я искренне скорблю. Какое несчастье, мой мальчик!
И протянув Феликсу руку, учитель повел его к двери с той осторожностью, с какой ведут паралитика. Восхищенные школьники следили за Феликсом без тени грусти. А он смотрел на них молча, он был занят своим новым положением и сам не мог определить, что же именно он испытывает.
Только через несколько лет, встречая на улице своих товарищей в сопровождении матерей, Феликс начал размышлять о не успевших проснуться в нем эмоциях, оборванных в том возрасте, когда он еще не отдавал себе в них отчета. Глядя на старую фотографию матери, он пытался возродить утраченное чувство, оживить давние воспоминания. Но все было тщетно — фотография по-прежнему оставалась изображением какого-то далекого, едва знакомого существа.
В интернате его товарищи говорили о женщинах не иначе, как тайком и с непристойными смешками, а служанки, единственные существа женского пола, которых он видел вблизи, были задиристы и остры на язык. Впервые девушка с такой милой простотой, с такой сердечностью взяла Феликса под руку, впервые он испытал вспышку до сих пор таившихся под спудом чувств и ощутил укол ревности, увидев, что Отилия держится так со всеми.
Кости со стуком падали на стол, четыре головы тесно сдвинулись вокруг лампы. У игроков вырывались только относящиеся к игре восклицания, дядя Костаке радостным смехом встречал каждую удачу, а Аурика, подперев лицо ладонями, наблюдала за игрой и порой бросала взгляд на Феликса. Перед Джурджувяну лежал кисет, старик то и дело доставал оттуда табак и скручивал сигареты; склеивая их, он сильно высовывал язык и таращил глаза. Готовые сигареты он складывал в большую жестяную коробку. Чуть поодаль на столе лежала груда игральных карт, из чего можно было заключить, что табле была лишь минутным развлечением, своего рода разминкой. Так, однообразно и напряженно, протекло больше двух часов; никто не отходил от стола, о Феликсе совсем забыли. Наконец Паскалопол, последний раз бросив кости, откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул.
— Кукоана Аглае, я предложил бы приняться за карты!
Дядя Костаке поднялся и с озабоченным видом тщательно собрал и отложил в сторону кости, а Аглае взяла колоду карт, перетасовала ее и положила посредине стола, предлагая кому-нибудь снять.
Читать дальше