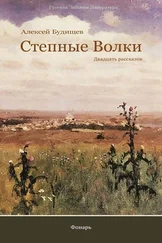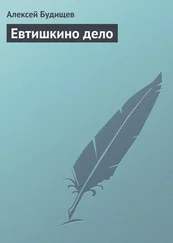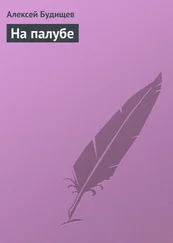Алексей Будищев
Фальшивая монета
Сергей Петрович подошел к окошку, вздрагивая и нервно позевывая, и заглянул на улицу. Маленький губернский городишко уже давно спал. Было тихо. Деревянные обильно смоченные дождем тротуары блестели, как разостланные холсты, и пропадали во мраке. Осенняя беззвездная ночь уныло глядела на землю. Луна точно скучала, томясь одиночеством, и при первой возможности спешила нырнуть в косматое облачко.
Сергей Петрович вздрогнул и подумал: «…Боже, как грустно! Что это Кремень не идет?»
Он зашагал по комнате, чистой и уютной, заключавшей в себе его кабинет и спальню. Затем он опустился, почти упал, в кресло около письменного стола и прошептал:
– Ах, Господи, да зачем же я в такую гнуснейшую историю-то впутался? Да где у меня голова-то была?
«Да ведь мне завтра драться, – продолжал он мысленно, – на дуэли драться, когда я путем и пистолета в руках держать не умею! Фу, как это с моей стороны гнусно! Да ведь я даже и права-то не имею жизнью своей рисковать! Ведь у меня мать и десятилетний братишка на руках! Ведь они пить-есть просят и, если я убит буду, нищими пойдут! Ах, как это скверно, как это подло, как это глупо!»
Сергей Петрович снова заходил по комнате, нервно пощипывая светло-русые усики. В его серых глазах стояли слезы. А на его совсем юном лице блуждало выражение невылазной тоски и скорбного, недоумения.
«Вот и Кремень тоже, – подумал он, – товарищем чего нет считается, а сам первый в секунданты вызвался, свидетелем смерти моей быть желает!»
Сергей Петрович опять подсел к столу.
«Ах, Кремень, Кремень, – продолжал он мысленно, – зачем ты меня на поединок тащишь? Ведь я не хочу этого, понимаешь ли ты, не хочу! – Ведь я пугаюсь, если при мне громко орех расколют, а тут вдруг в меня стрелять станут, в меня, в живого человека, ни за что ни про что, здорово живешь, из-за подлейшей истории, из-за глупейшего венского стула, которому и цена-то медный грош!»
– Ах, Кремень, Кремень! – вслух простонал Сергей Петрович и вздрогнул.
В комнату вошла его мать Дарья Панкратьевна, худенькая старушка с добрым лицом.
– Ты что, Сереженька, стонешь? – спросила она, участливо заглядывая в глаза сына. – Али тебе неможется?
Сергей Петрович попробовал сделать веселое лицо.
– Нет, маменька, я ничего. Дело у меня спешное есть, это правда, а здоровье ничего. Вы мне, маменька, не мешайте, а то к сроку не сделаешь распеканция будет, а я распеканций как огня боюсь. Робок я, маменька, ах, как робок! – добавил он со вздохом.
Дарья Панкратьевна опустилась рядом на стул.
– Не скрывай от меня, Сереженька – заговорила она певуче. – Не вышло ли у тебя истории какой у Загогулиных? Больно уж ты рано вернулся оттуда; там, поди, только теперь самый разгар танцев-то! Не скрывай от меня, Сереженька! Уж не Варюшенька ли Загогулина обидела тебя чем, а? Ведь я знаю, все знаю! Вижу, что у тебя по ней сердечко болит! Так ведь? Она, може, какому другому кавалеру предпочтение оказала? Да? а ты ну, конечно, человек молодой да горячий: «фырк фырк», шапку в охапку да в дверь. Так? Варюшенька-то, може, офицеру какому из новоприбывших предпочтение свое оказала; женский пол ух как до сабель-шпор падок! Ну, а ваш брат чиновничек небольшой, тоже известно с амбицией: мы, дескать перед офицерами в грязь лицом не ударим, мы, дескать и сами с усами! Футы, нуты! Да?
Дарья Панкратьевна хотела было ласково улыбнуться, но внезапно побледнела и глядела на сына как бы с недоумением и даже с испугом, так как Сергей Петрович поднялся при последних словах матери в сильнейшем волнении.
– С балу-то я, маменька, вернулся, это верно, – прошептал он, вздрагивая, – но что касается Варюшенькиного предпочтения, то я на него плюю! Да-с, плюю и даже не извиняюсь! И что касается офицеров тоже, то прошу вас маменька глаза мне ими не колоть. Нечего-с! Мы и сами не хуже их и, быть может, в скором времени им себя покажем. Покажем, маменька, покажем, покажем!
Последние слова Сергей Петрович даже выкрикивал волнуясь и притопывая ногою. Но он внезапно замолчал, увидев ошеломленное и огорченное лицо матери.
– Маменька, – прошептал он, становясь пред старушкой на колени и ловя её руки, – маменька, простите меня, самолюбца проклятого, огорчил я вас и обидел, и все потому, что у меня дела по горло, а вы ко мне с расспросами пристаете; простите меня, маменька!
Глаза Дарьи Панкратьевны сразу повеселели.
– Ох, сынок, да неужто же у тебя с офицерами ничего не вышло? – спросила она все еще с недоумением на лице. – А я думала-думала, гадала-гадала. Вижу, ты пришел рано и все по комнате бегаешь и все стонешь, слышу! Я даже карты раскладывала, и все тебе скверно выходило: туз пиковый прямо на сердце твое упал, и в доме червонном тебя хлопоты пиковые ожидали. И все пики и все пики! Я даже расплакалась. Терпеть я не могу пиковой природы!
Читать дальше