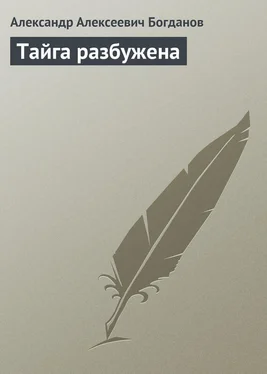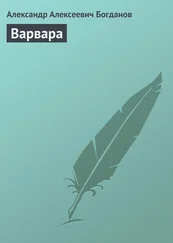Все переговорено, уходит Трофена.
– Ой, резвая бабонька. Не боится – голову сорвут! – замечает про нее Тихон.
Секлитея сухо поджимает губы, потом враждебно бросает:
– Че голову сорвуть, че белые круглы рубли достанет! Верно, што – лодари.
– Ну, уж ты, слушаешь всяку брехню, – не соглашается Тихон. – Зря на бабу грешишь!..
Родион молчит. У него свербит в сердце от слов Трофены.
«Сожгут заимку, не минуть! Ладно, кабы ежели в дело. Э-эх, достать бы теперьча винтовку хорошу!»
Еще засветло Родион и Тихон прячут в сарае среди всякого хозяйственного хлама все, что поценнее. Пашутка со Спирей, глядя на старших, тоже затолкали в сенцах за кадку деревянных коников, глиняную свистульку и еще кое-что.
Берданы прячут в избе: нельзя же оставаться в такое время с голыми руками.
Вечереет. Зажигают самодельную свечу.
Родион прислушивается, как свистит за окном ветер. Ему все кажется, что на улице среди разноголосого шума слышится чей-то женский крик. Берет досада на Аннушку, которая ушла за дрожжами к соседям и до сих пор не вернулась.
– Че-так запропастилась?
Спиря прикорнул в уголке: намаялся больше старших за день. Тихон ковыряется за столом с шилом – чинит сбрую.
Частый порывистый стук слышится в сенцах.
Примолкшая Пашутка полошится:
– Мамка вернулась!
Родион крупными, стремительными шагами идет в сенцы. Громыхает железной щеколдой, впускает Аннушку. В темноте и в волнении не может быстро задвинуть запорку, пальцы путаются в веревочке, заскочившей за железку, слышит только, что Аннушка дышит тяжело, как запалившаяся лошадь.
Темное, нехорошее предчувствие растет у Родиона, и от этого поднимается злоба против жены.
– Нашла тоже время ходить за дрожжами!.. У-у, черрт!..
Он замахивается плашмя рукой, но не ударяет, а бросает рывком:
– Иди в избу!
Аннушка, молча и странно согнувшись, переступает порог. Шатаясь, она правой рукой хватается за притолоку и останавливается. Следом за ней входит Родион.
– Ма-а-монь-ка! – вдруг раздается испуганно-пронзительный вопль Пашутки.
Только тогда в тусклом мерцанье свечи Родион начинает ясно различать и сразу схватывает жадно раскрывшимися глазами все до мелочей. Зипун у Аннушки на вороте разорван. Волосы космой выбились из головной шали. И на щеке, пониже виска, не то грязь, не то сгусток крови с грязью.
Ножом резануло в сердце. Подался к ней ближе и упавшим, проваливающимся куда-то голосом глухо спросил:
– Што ты? Што с тобой?..
Лицо Аннушки бледное, совсем мертвое, со стиснутыми зубами. Тихон с Секлитеей из-за стола смотрят. Пашутка съежилась, дрожит… Бросилась бы к мамушке, да тятька еще страшней около порога: лицо перекосилось и почернело.
Аннушка тупо ушла глазами в одну точку на полу. Хочет ответить, но дергаются губы, и от этого слова хриплые и обрывчатые:
– Силком… на улице взяли… гады!..
Огненными ударами каждое слово бьет в голову Родиона. Он не знает, верить или нет, не ослышался ли? Нет, правда. И дикая, сокрушающая ярость охватывает его. Все изнутри собирается в один сплошной, звериный, остервенелый крик:
– У-у… Убью!..
Но слова застревают… Возвращается сознание, просыпаются жалость и любовь. Родион сразу обессиливает. Только саднящая боль в горле. И голос становится чужим, незнакомым ему:
– Как же так, Аннушка? А-ах!..
Аннушка прячет лицо в тени. Вздрагивают ее плечи. Поворачивается и тихо просит:
– Выйдем, Родя, в сенцы…
Здесь в темноте Аннушка рассказывает. Вперемежку с речью вздыхает, вытирает рукавом лицо.
– Кто их разберет?.. На голову што-то набросили. Затащили за дворы… отбивалась…
Родион прислонился к стене. Он в одной рубахе, и хотя в сенцах холодно, но ему жарко.
Долго стоят молча…
Аннушка изнеможенно садится около кадки с водой… Пьет жадно ковшом воду.
– О-ох, перегорело все внутри!
Хватается за грудь и только сейчас замечает, что болит палец, – вывихнула, когда сопротивлялась.
Родион подходит к ней, гладит волосы…
Мягко сжимает сильными руками ее плечи.
Аннушке легче от ласки, но гнетет горечь от непоправимости случившегося:
– Как я теперьча людям на глаза покажусь?
– Ничего, Аннушка, – не твой стыд!
Родион переламывает еще бурлящую внутри досаду и примирительно кладет руку на голову жены.
Корявый и дубовый, весь пропахший зверьем и тайгой, а вот нашел же в себе ласковое слово:
– Голуба!..
И кажется Родиону, что пелена спадает с его глаз, и он начинает понимать какую-то иную правду жизни, правду борьбы, с которой пришли Скрывающиеся у него на заимке «странние» люди.
Снизились туманы, небо, закутанное черной кошмой, придвинулось к тайге.
Читать дальше