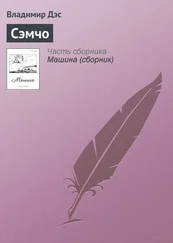Едва мы рассаживались, как прибегал опоздавший композитор, а с ним еще человек шесть. Француз, натянуто улыбаясь, опять суетился, звал официантов, хозяина ресторана, что-то им объяснял. Опять приставляли столы, искали стулья, а когда все рассаживались, приходил еще кто-нибудь из нашей каннской команды.
Пригласивший нас француз в конечном итоге оказывался затертым где то среди приставных столов. С бордовым лицом, полными ужаса глазами он взирал на то, как его незваные гости распоряжались официантами во фраках и белых перчатках, разносившими серебряные супницы со знаменитым супом. Никто уже не замечал хозяина застолья, да многие его и просто не знали. Все с ходу начинали вы пивать и закусывать. Выпив и закусив, начинали ругать французскую кухню. Съеденный суп называли бурдой, вспоминали щи и водку, а наиболее резвые требовали чего-нибудь посъедобнее и покрепче.
Потом почти все расходились. Оставался бедный – в самом прямом смысле, после расчета за званый обеда на двоих – француз, я и несколько моих друзей. Затягивали задушевную русскую песню, потом украинскую, а потом француз, уже хлебнувший с горя крепкого, пел, обнимая меня, свои французские песни.
Расставались все друзьями, менялись адресами и сыпали обещаниями так встретить француза в России, что всем чертям тошно станет. А он, оглядывая опустевшие столы, только тихо плакал. Я думаю, что плакал он от мечтательной возможности приехать в Россию и прийти ко мне на званый вечерний обед точно так же, как пришли к нему мы: за столик на двоих – дружеской компанией.
Лишь один раз сценарий таких вот званых обедов был поломан.
Один из самых дорогих загородных ресторанов снял для всей нашей братии какой-то берлинский русский. Сидел он во главе стола, весь обвешанный золотом, и блестел, как витрина ювелирного магазина перед новогодней распродажей. Был он молчалив и угрюм, казалось, будто он однажды ушел в себя и никак не может оттуда вернутся, так там и живет. Руки его еле двигались по столу, с трудом управляясь с едой, поскольку перстни, браслеты и часы из всех видов золота самим своим весом не давали ему производить обыденные движения. Цепи обвивали шею, как толстый зимний шарф, и своей верижной тяжестью то и дело заставляли его сгибаться в недвусмысленную позу.
Было ему тяжело, ел он только сырое мясо и пил только водку, разбавленную шотландским виски. На нас и наши сверхфантастические заказы он по обращал никакого внимания, словно это его совсем не касалось, словно не ему предстояло платить по счету.
Я надеялся, что он очнется, когда увидит счет. «И не такие валились с ног и превращались в эпилептиков, когда приходило время платить», – почему-то злорадно думал я. Но он, бросив хозяину ресторана кредитную карточку величиной с приличный золотой поднос, зашаркал к двери, при каждом шаге позвякивая и побрякивая дорогим металлом.
А мы настолько разочаровались в наших ожиданиях, что с расстройства даже не стали захватывать из ресторана сувениров в виде пепельниц, ваз и жен французских меценатов.
Вообще-то Франция радовалась нашему приезду все время, пока мы там были: светило солнце, на набережной нас рисовали художники, для нас играли шарманки и аккордеоны. Женщины – почти все – были влюблены в моего друга, подруги этих женщин – в меня.
Бывали и неожиданные встречи, тоже с соотечественниками.
Как-то раз на бульваре навстречу нам бросился мужчина лет тридцати пяти, с длинными волосами и атлетической фигурой, и стал по очереди заключать в объятья то моего друга, то меня. Потом последовала краткая, но обстоятельная беседа:
– Ну, как вы?
– Да ничего, а ты как?
– Да тоже ничего.
На этом мы расстались. На мой немой вопрос другу «Кто это?» – он вслух ответил: «Моя тень». И вправду, куда бы мы с ним после этого не приезжали, будь то Париж, Берлин, Нью-Йорк или Токио, мы непременно встречали этого волосатого человека, и всегда повторялся тот же обстоятельный диалог:
– Ну, как вы?
– Ничего, а ты как?
– Да тоже ничего.
И мы вновь расходились в разные стороны. Интересно, что в России я его ни разу не встречал.
Что двигало этим человеком, перемещающимся за моим другом по всему белу свету? И неужели лишь затем, чтобы поинтересоваться, как он чувствует себя за границей? Какая преданность таланту!
Однажды я вслух прикинул, что будет, если ему ответить, будто дела идут плохо. Что он, бедный, сделает? И решил: наверное, будет спасать или денег даст.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу