Во-первых, долго нельзя так любить, как любили они с тем мужчиной. Страсть в браке быстро проходит, и на смену ей является тоска. Выходить замуж по страсти следует только в шестнадцать-семнадцать лет. Когда она собиралась под венец впервые, ей как раз исполнилось шестнадцать, и она была страстно влюблена, что было вполне нормально, естественно. А вот в другой раз… Главное, тот человек был совершенно чужд ей, ну вообще чужой человек, из далекой и страшной, чужой, хоть и родной страны… Ох, какая кошмарная страна – Россия! Когда-то оттуда бежали отец и мать мадам Ле Буа, а потом, спустя почти полвека, бежала и она… с растерзанным сердцем, потеряв за один только год столько души своей, что, казалось, вовек не обрести утраченного, никогда более не обрести покоя. Но время, всемогущее время унесло горе, смыло его, как река. Время и в самом деле похоже на реку, на воду – все смывает. И лечит все, будто целебная вода. Хорошо это или плохо? Неизвестно. Шекспир отвечал однозначно: «Время – для немногих счастье, скорбь – для всех!»
Мадам Ле Буа пожала плечами. Она бы не стала утверждать столь категорично. Ей-то воспоминания о былых временах уже не приносят ни скорби, ни счастья, ни ужаса. Хотя… Нет, она лукавит перед собой. Разве вчера вечером, когда она шла мимо церкви Святого Юсташа в Ле Аль, она не испытала подлинного страха от внезапно нахлынувшего воспоминания?
Вчера вечером старая дама решила прогуляться по Монтергёй. Она любила эту шумную пешеходную улицу со множеством магазинов. Здесь сказочные кондитерские и булочные, а рыбные, мясные и цветочные лотки и фромажерии [2] От франц. froage – сыр.
держат не арабы, которых теперь сплошь и рядом видишь даже в центре, а настоящие французы. Еще их отцы и деды держали те же самые рыбные, мясные и цветочные лотки и фромажерии – здесь же, на Монтергёй, рядом с Центральным рынком, со знаменитым Чревом Парижа, воспетым Золя. Может быть, если бы мадам Ле Буа встретилась с этими самыми отцами и дедами, у них нашлось бы, о чем поговорить, о чем вспомнить, сидя за столиком одного из здешних многочисленных бистро, которые тоже помнят былое… Она ведь тут часто бывала в прежние времена! Неподалеку от Монтергёй, вон там, за углом, была конспиративная квартира 9-й группы парижского отделения FFL, Forces de la France Libre, войск Свободной Франции. Может быть, в нее входил и кто-то из старожилов Монтергёй…
Но, скорей всего, никого из тех стариков уже нет – как нет больше и Чрева Парижа. Теперь на его месте прелестный парк. Только она что-то задержалась тут, на этом свете. Одинокая старуха, переполненная воспоминаниями, будто ее китайская шкатулка – пуговичками. Боже мой, каких только пуговичек там нет! Даже с матушкиных платьев! Их начала собирать еще в Харбине grand-aan…
Нет, ну при чем здесь давно покойная grand-aan? При чем здесь пуговички? Мысли скачут, совершенно как блохи на уличной собаке, не угнаться за ними!
Кажется, сто лет прошло с тех пор, как она видела настоящую уличную собаку. Это хорошо, конечно, что больше нет бездомных псов, а все-таки почему-то хочется встретить на улице вдруг не одного из рафинированных золотистых ретриверов или страшненьких тигровых бульдогов, а веселую лохматую дворняжку с любопытной, словно бы улыбающейся мордой – как раньше, давным-давно…
Стоп. Мысли опять разлетелись. Монтергёй, она почему-то вспоминала про Монтергёй… Почему? Может быть, потому, что однажды видела здесь саму английскую королеву? Да-да, ее величество Елизавета тоже любила Монтергёй и как-то раз, во время очередного визита в Париж, решила прогуляться по этой чудной улице. Конечно, она была окружена толпой охраны и толпищей зевак, так что старая дама увидела не то чтобы королеву, вернее, совсем не королеву, а всего лишь краешек розовой вуали, красивым облачком осенявшей королевскую шляпку. А это, конечно, не считается.
Ах нет, сообразила вдруг мадам Ле Буа, она вспоминала Монтергёй вовсе не из-за королевы, а из-за того высокого парня, который внезапно появился из-за церкви Святого Юсташа. Он шел быстрой, решительной походкой, развернув плечи. На нем было крохотное кепи с маленьким козырьком, надвинутое на лоб, короткое приталенное пальто, распахнутое так, что были видны свитер и галифе, заправленные в высокие, до колен, сапоги с узкими голенищами. Мадам Ле Буа даже ахнула, когда его увидела, даже зажала испуганно рот ладонью. Совершенно так одевались в Париже во время оккупации те парни, которые пошли на службу к гитлеровцам. Это был их особый шик: куртка, перешитая из шинели, кепи, надвинутое на лоб, сапоги и галифе. Увидишь такого франта – и понимаешь: перед тобой прихвостень бошей. Среди них были не только французы, но и русские, такие же отпрыски эмигрантов, как и Рита Ле Буа, и они были почему-то особенно безжалостны к соотечественникам, которые работали в Сопротивлении…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



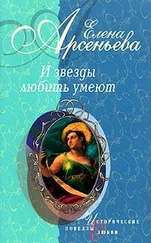
![Елена Чалова - День длиною в жизнь [СИ]](/books/423626/elena-chalova-den-dlinoyu-v-zhizn-si-thumb.webp)







