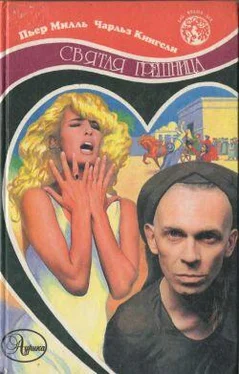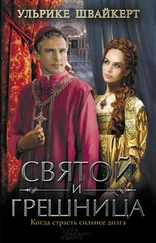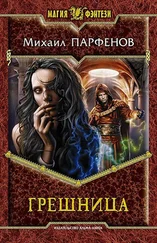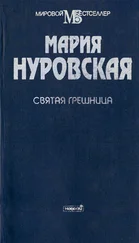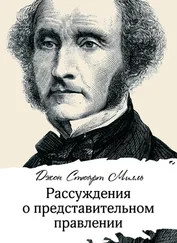Помощник палача толкнул его, заставив опуститься на колени, и пригнул его голову к земле, потянув за волосы. А он все продолжал петь, обезумев от ярости и от охватившего его экстаза. Главный палач взмахнул своим обоюдоострым тяжелым мечом, привязанным для большего удобства к руке, и из его легких вырвался воздух со свистом, прервавшим пение.
Циркумцеллисты продолжали петь… Голова скатилась. Совершенно голый мальчишка, который сидел верхом на кровле храма, чтобы лучше видеть интересное зрелище, сплюнул ей вслед, вместе со струйкой слюны, несколько зернышек граната, который он ел. Циркумцеллисты испустили ликующие возгласы:
– Он мученик! Он мученик! Слава Переннию-мученику! Теперь очередь за нами!
Епископ Анисим и другие христиане запротестовали:
– Неправда, собакам не попасть в рай! Еретики не заслуживают небесного венца!
Между донатистами и христианами завязалась на агоре драка. У них не было никакого оружия, но мужчины хватали друг друга за горло, а женщины пускали в ход ногти. Легионерам стоило больших трудов разнять их.
Тогда Перегринус объявил, что все те, кого им удалось задержать, независимо от секты, к которой они принадлежат, должны подчиниться требованиям эдикта; в противном случае они будут казнены. Наконец толпа получила то, чего она так жаждала! Почуяв запах крови, зеваки ожидали достойного конца этого зрелища.
Перегринус прекрасно понимал ее психологию и отдал приказ обезглавить для начала нескольких христиан из простонародья. Он мстил за тот страх, который ему пришлось пережить.
Допрос продолжался среди весьма повысившегося настроения. Руководители христиан не собирались его понижать. Они выталкивали вперед наиболее экзальтированных, подбодряли колеблющихся, стыдя их за малодушие. Они прекрасно знали, что скоро доконают империю.
Если машина не шла без них, надо было, чтобы она шла с ними.
Таково было мнение более проницательных политиков при дворе тетрархов, сочувствующих христианству. Они только ждали случая, чтобы проявить себя. Это был последний бой: надо было держаться до конца, показать свою стойкость и твердость, хотя бы ценой жизни солдат и своей собственной. Все эти люди были мужественные энтузиасты, и они требовали и себе того венца мученичества, который был обещан избранным.
Более чуткие люди среди присутствовавших коринфян – не говоря уже о Феоктине и его друзьях, которыми руководили побуждения чисто личного свойства, – негодовали при виде такой неслыханной жестокости. Они осуждали Перегринуса за отсутствие выдержки и хладнокровия и, не стесняясь, высказывали это.
Высшие классы в ту эпоху относились с каким-то особенным презрением к чиновникам. Сосредоточивая на своей собственной особе всю власть и могущество, последние императоры тем самым подрывали уважение к своим представителям. Это было очень рискованно.
Правитель, каким был Перегринус, внешне пользовался властью бывших проконсулов. Но в действительности это было не так.
В эту эпоху упадка империи было чрезвычайно трудно перейти к тактике оборонительной после того, как она долгое время привыкла видеть себя победительницей. В провинциях с нелатинским языком замечалось если не стремление к самостоятельности, то какое-то тяготение к волнениям и смутам; народ желал видеть во главе администрации людей своей нации, а не римлян: восток Средиземного моря делал первые попытки отделиться от запада.
Приговоры, выносимые Перегринусом, встречались то ропотом, то издевательствами. Хотя у него и было достаточно прозорливости, чтобы предвидеть последствия, но у него не хватало ума и силы воли, чтобы настоять на своем первоначальном решении. Он сбился с пути, увлекаемый различными течениями. Со всех сторон на него сыпались насмешки. Он пришел в полное замешательство. Его раздражение все возрастало, а вместе с ним и злоба.
Клеофон бросился в первый ряд этих насмешников. Его утонченные женственные нервы не выносили вида и запаха крови, и вместе с тем эта кровь, крики, шум, грубость и неожиданность ударов, говоривших о превратностях борьбы, привели его в состояние какой-то странной экзальтации. Никогда еще ему не приходилось переживать таких сильных ощущений. Его точно подхлестывали какие-то невидимые плети, которые возвращали ему мужественность.
Миррина и Евтихия стояли в толпе христиан в ожидании суда. Так как они были теперь единственные женщины среди обвиняемых, то они невольно жались одна к другой, изредка обмениваясь несколькими словами. Для Евтихии Миррина была христианкой, ей этого было достаточно. А Миррина, видя ее такой мужественной и твердой, прониклась к ней чисто детской доверчивостью.
Читать дальше