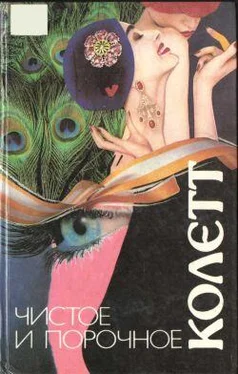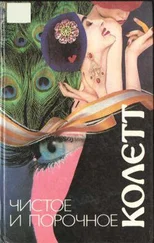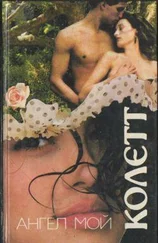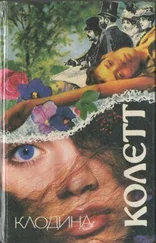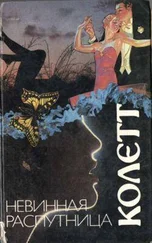Она медленно опустила трубку на рычаг, надела чёрную соломенную шляпку, похожую на канотье времён её ранней юности, и открыла дверь в кухню.
– Госпожа Сабрие… – нерешительно проговорила она.
И, словно мгновенно пробудившись, повела носом.
– Что это так воняет?
– Да это же рыба, сударыня. Вы же сказали – белый сыр и рыба в чёрном масле…
– Какая гадость! Вы подумали…
Уголки её губ дрогнули, она жалобно сказала:
– Я просто пошутила. Съешьте свою рыбу сами! Оставьте мне сыр. Чего-нибудь куплю… Ладно, там посмотрим.
Она снова впала в нерешительность, вяло переставила какие-то безделушки, уселась на подоконник, положив ногу на ногу. Когда длинный чёрный автомобиль остановился среди тележек разносчиков перед продовольственным магазином, Жюли снова подобралась и сошла вниз поступью молодой девушки, с удовольствием ощущая лёгкость своей походки, упругость груди, свободу движений, не стесняемую никаким грузом избыточной плоти.
– Так и есть, это Бопье. Как жизнь, Бопье? Вы не меняетесь.
– Госпожа графиня мне льстит.
– Нет, Бопье. Вы всё тот же, потому что стоит недоглядеть хоть пять минут, вы болтаете о моём возрасте. Вы сказали моей прислуге, что мне сорок четыре года.
– Я? О! смею заверить госпожу графиню…
– Мне не сорок четыре, Бопье, а сорок пять. Мы едем домой.
– Домой… – в замешательстве повторил шофёр, – какой дом вы…
– Ваш, – ласково сказала госпожа де Карнейян. – Ну, наш. Тот самый, на улице Сен-Саба.
Дверца захлопнулась, и Жюли подвергла увозившую её машину строгому суду бедняка. «Машина выскочки… Купили в Автомобильном салоне. Из разряда "оставили-за-магараджой"… Эрбер всегда питал слабость к моторизованным катафалкам. Жемчужно-серое сукно! Почему бы уж тогда не пармский атлас? И впридачу шофёр в белой летней форме! Да, нельзя иметь всё сразу – и миллионы, и вкус…» От критики не ускользнул и махровый цветок, украшавший её жакет: она сняла его и выбросила в окно, когда машина въезжала во двор-сад особняка.
Жюли не предвидела, что на неё так подействует обстановка, которую она когда-то выбрала и любила. Кровь застучала у неё в висках, и, прежде чем ответить отрицательным знаком шофёру, спрашивавшему: «Мне проводить госпожу графиню?», – она подняла голову к окну, из которого, бывало, выглядывал её муж, чтобы крикнуть Бопье: «Ровно в два!»
«Ровно в два… И машина где-то пропадала до четырёх… Или Эрбер катил в такси к какой-нибудь девке…» Она поднялась на невысокое крыльцо, вошла в вестибюль почти бессознательно – ноги сами помнили каждую ступеньку, рука – дверную ручку. Запах женских духов в вестибюле привёл её в себя. «Духи Марианны… Слишком крепкие духи, слишком много денег, бриллиантов, волос…» Неожиданное раздражение обостряло зрение и слух. На втором этаже ей показалось, что в щёлочке приоткрытой двери лезвием блеснул взгляд, донеслось чьё-то дыхание, и дверь закрылась. «Моя спальня…» Впереди шёл лакей, и она ожидала, что он откроет дверь, соседнюю с дверью спальни Эспивана и ведущую в его рабочий кабинет. Но лакей попросил её подождать в незнакомой маленькой гостиной. Она услышала за стеной голос Эспивана и на какой-то момент потеряла ориентацию во времени, усомнилась в реальности происходящего, ей показалось, что она во сне пытается поймать снящуюся достоверность. Лакей вернулся, и она пошла за ним.
«Куда, к чёрту, перебрался Эрбер?» – думала она, считая закрытые двери. «Моя спальня… Бельевая…
Его спальня… Комната, которую мы называли детской…» Вдруг она резко остановилась, с отчаянием спохватившись: «Я не переобулась!» Она готова была повернуться назад, убежать. Потом успокоилась: «Ну и что? Гляди-ка, он устроился в детской. Забавно!» Её провожатый посторонился, и Жюли вошла во всей красе – прелестный нос насторожён, глаза нарочито близоруко прищурены, узкий рот приоткрыт в холодной любезной улыбке, взгляд нацелен на высоту человеческого роста. Но голос Эрбера донёсся с узкой койки:
– Значит, за тобой надо посылать? Сама бы ты так и не объявилась?
Голос был весёлый, молодой, звук которого Жюли до сих пор не могла слышать без боли и ярости. Она опустила глаза, увидела лежащего Эрбера, всмотрелась. «Ах! – подумала она, – ему конец». Запах эфира, знакомый Жюли по многим в недобрый час посещаемым местам, вдруг обрёл пугающую значительность и подсказал, что ей говорить и делать.
– Эрбер, – сказала она немного слишком ласково, – что это ещё за фокусы, что за газетная шумиха? И это ты ради меня вырядился в пунцовую шёлковую пижаму? Что я, по-твоему, должна думать о мужчине, который принимает меня в пунцовых шелках?
Читать дальше