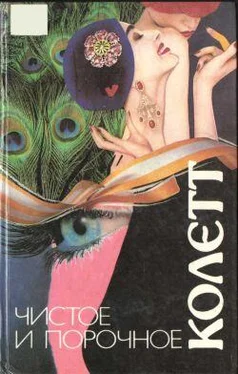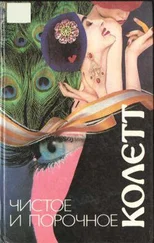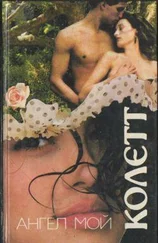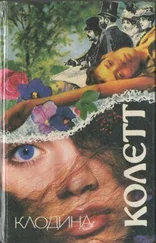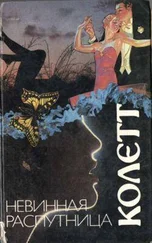Под этой порослью в жаркие часы не было места душнее, чем дом Адриенны. Я проскальзывала в него по-кошачьи в поисках обрушивающихся книжных груд, выраставших на заре шампиньонов, дикой земляники, быть может, ископаемых морских моллюсков и даже, в надлежащее время года, серых пюизанских дымовых трюфелей. Но входила я шагом осторожной кошки, соблюдающей запреты кошки старшей. Само присутствие Адриенны, её безразличие, искристая, бережно хранимая тайна её жёлтых зрачков, похожих на терновые ягоды, заставляли сжиматься сердце, – впрочем, я догадывалась об их подлинном смысле… Относясь ко мне с подчёркнутой небрежностью, она учила меня манерам своего дикарского искусства, своему цыганскому равнодушию, и тогда это её всеобщее безразличие оскорбляло меня больше, чем резкий выговор.
Когда моя мать и Адриенна кормили грудью – одна свою дочь, а другая сына, – они однажды, шутки ради, поменялись выкормышами. И теперь Адриенна шутя иногда звала меня: «О ты, которую вскормила я своей грудью!» Я так густо багровела, что мать, нахмурив брови, всматривалась в моё лицо, ища на нём причины внезапной краски. И когда хотелось скрыться от этого ясного взгляда, пронзительного и отточенного, как лезвие, другой образ начинал терзать меня: коричневатая грудь Адриенны и её лиловое и твёрдое остриё…
Предоставленная самой себе у Адриенны среди книг, сложенных шаткими кипами, – там, среди прочего, была вся подборка «Ревю де дё монд», – среди нескончаемых томов старой медицинской библиотеки, пропитанных запахом погреба, среди исполинских ракушек, полуиссохших лекарственных трав, прокисшего кошачьего корма, собачонки по кличке Куропатка, чернявого котофея с белой мордочкой, который отзывался на «Колетт» и любил твёрдый шоколад, я вдруг вздрагивала от призыва, доносившегося словно с вершин тисов, опутанных розами и чахлой туей, обвитых глициниевым змием… В нашем окне, словно в дом забранись воры или вспыхнул пожар, мать стоя выкрикивала моё имя… Странное, без всякой причины свойственное ребёнку чувство вины: я бежала стремглав, на ходу делая простодушное лицо, старательно задыхалась…
– Так долго – у Адриенны?
И больше ни слова, но как это было сказано! Эта нескрываемая ясновидящая ревность Сидо и моё растущее смущение охладили, по мере того как я росла, дружбу двух женщин. Между ними не было ссор, и у нас с матерью не произошло никаких объяснений. Да и что тут можно было объяснить? Адриенна могла приближать меня и отдалять, у неё была необъяснимая власть надо мною. Но отнимают не всегда то, что и вправду любят… Мне было десять-одиннадцать лет…
Сколько же времени должно было пройти, чтобы это тревожащее воспоминание, этот неосознанный жар сердца, феерические превращения этого существа и его жилища соединились с мыслью о первом соблазне.
Так Сидо и моё детство, счастливо перекликаясь, жили в самом средоточье воображаемой звезды об осьми ветвях, и каждая из ветвей звалась именем какого-нибудь далёкого или близкого местечка. Двенадцатый год моей жизни принёс злую долю: утраты, разрывы. И, совсем погрузившись в повседневный, невидимый миру героизм, мать уже не могла всецело принадлежать саду и младшему своему ребёнку…
Я охотно приложила бы к этим страницам её фотопортрет. Но у меня нет снимка Сидо, стоящей в саду, где её окружали бы садовый насос, гортензии, плакучий ясень и старый орешник. Такой я покинула её, когда мне пришлось оставить и моё счастье вместе с моею юностью. Здесь же я увидела её ещё раз, всего на мгновение, весной 1928-го. Вдохновенно взирая ввысь, она, как мне показалось, призывала к себе пророчества всех духов, так верно служивших ей на всех восьми дорогах Розы Ветров.
Сейчас мне кажется странным, что я так мало его знала. Моё восхищённое внимание, прикованное к Сидо. отрывалось от неё лишь по причине вечной моей непоседливости. Но был ещё и он, мой отец. Всё его внимание тоже было отдано Сидо. И, думая о нём, я понимаю, что она тоже почти не знала его. Она знала только «общие места» неприятной правды: он любил её с такой страстью, которая, искренне желая давать, на самом деле всё берёт, – а она любила его ровной любовью, неслышно управляя его житейским распорядком, но при этом считаясь с ним.
Помимо этих ослепляющих очевидностей, я помню только очень редкие случаи открытого проявления его мужской сущности. Дитя, что могла я о нём знать? Чтобы порадовать меня, он клеил «домики для жучков» с окнами и раскрашенными дверками и ещё кораблики. Он любил петь. Иногда он раздавал нам, детям, припрятанные где-то у него цветные карандаши, белую бумагу, палисандровые рейки, золотую фольгу, широкие белые хлебцы с печаткой, которые я ела пригоршнями… И ещё я помню, что со своей единственной ногой он плавал ловчее и быстрее, чем его соперники о двух руках и ногах…
Читать дальше