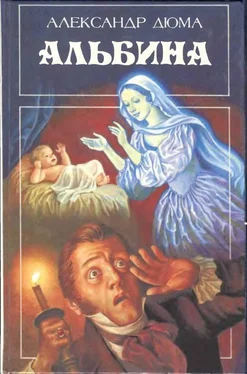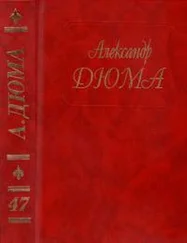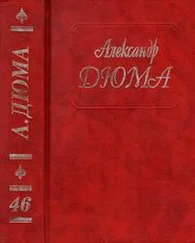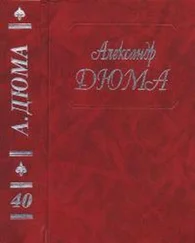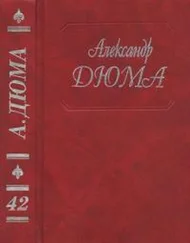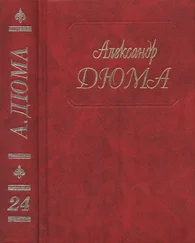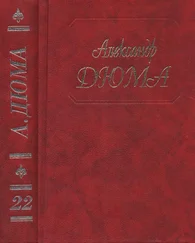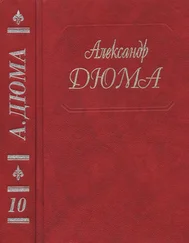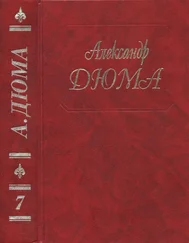Семейство фермера составляли мать и жена. Условились, что они приедут в Париж, а маркиза с дочерью оставят столицу в нарядах и с паспортами этих двух крестьянок.
Между тем баронесса Марсильи приготовила все к отъезду.
В эту эпоху даже в самых богатых домах было очень мало звонкой монеты; большая часть денег заключалась в ассигнациях; однако баронесса успела собрать до двадцати тысяч франков, которые вместе с бриллиантами маркизы, стоившими до ста тысяч, обеспечивали первые нужды эмигрантов. Притом всякий из них думал, что существующее положение дел не может быть продолжительно и что эмиграция не продолжится более трех или четырех лет.
Итак, бедные женщины занялись приготовлениями к отъезду. Сборы баронессы были невелики, не так было с маркизой: дочь ее, придя к ней в комнату, нашла ее окруженной таким множеством ящиков, чемоданов и узлов, что их едва можно было бы уложить на трех повозках; она не хотела оставить ни одного платья, брала с собой даже столовое белье.
— Маменька, — сказала ей баронесса, печально качая головой, — вы напрасно трудитесь. Во избежание подозрения, нам нельзя взять с собой ничего, кроме того платья, которое будет на нас; что же касается до платков, то по одному из них, обшитому и украшенному кружевами, нас узнают и остановят.
— Однако, милая, — сказала маркиза, — мы не можем ехать без платьев.
— Вы правы, маменька, — отвечала баронесса со своей обыкновенной добротой, — но мы можем уехать отсюда только одетые просто, сообразно со званием, на ми на себя принятым. Не забывайте, — прибавила она, стараясь улыбнуться, — что мы крестьянки, мать и дочь крестьянина, что вы называетесь Жервезой Арну, а я Катрин Пайо.
— О! Какое время! Боже мой! Какое время! — шептала маркиза. — Если бы Его Величество в самом начале уничтожил злоупотребления, повесил бы Неккера и расстрелял Лафайета, мы бы не были в том положении, в каком теперь находимся.
— Подумайте о тех, кто гораздо несчастнее нас, и пусть это сравнение укрепит ваше терпение. Подумайте о короле и королеве, заключенных в Тампле, вспомните о бедном дофине, сжальтесь если не над нами, то над Цецилией, которая, потеряв нас, останется сиротой.
Маркиза не могла не уважать всех этих доводов, но согласилась на них со вздохом. Она выросла в роскоши, привыкла к ней, надеялась умереть с ней, и прихоти сделались для нее необходимостью.
Всего недовольнее была она, когда баронесса принесла ей приготовленное белье: хотя оно было не из самой толстой холстины, но ей, привыкшей к голландскому полотну и батисту, показалось очень грубым, особенно рубашки привели ее в отчаяние, и она объявила, что никогда не наденет этого белья, которое годится только для мужиков.
— Увы! Маменька, — печально отвечала баронесса, — мы были бы счастливы, если б могли хоть на одну неделю уверить всех, что принадлежим к этому классу, который теперь всемогущ.
— Но это могущество не будет продолжительно! — вскричала маркиза. — Надеюсь, что нет.
— И я также, маменька, и я надеюсь, но покуда это правда, и, если вам угодно, я буду носить ваше белье до дня нашего отъезда, чтобы немного обносить его.
Это предложение баронессы до того тронуло маркизу, имевшую чувствительное сердце, что она согласилась на все и ко множеству жертв, уже принесенных ею, решилась присоединить еще одну, как она уверяла, самую тягостную.
Между тем приехал фермер с женой и матерью; баронесса приняла их как спасителей ее жизни, маркиза — как людей, которых она удостоила чести спасти ее жизнь.
Приехавшие кроме платьев, в которые были одеты, привезли для баронессы и маркизы свои праздничные наряды.
К счастью, они были почти одного роста.
В тот же вечер баронесса и маркиза тщательно заперли двери и ставни и примерили свои новые костюмы.
Баронесса покорилась неудобствам своей одежды, но маркиза не могла удержаться от жалоб: чепчик не держался на голове, сабо давили ноги, карманы были не на своих местах.
Баронесса посоветовала ей остаться в этом платье до отъезда, чтобы привыкнуть к нему, но маркиза отвечала, что лучше согласится умереть, нежели носить подобные тряпки хоть час лишний, нежели сколько было необходимо.
Отъезд назначили через два дня.
В это время Катрин Пайо сшила маленькой Цецилии полный костюм. Дитя было прелестно в новом наряде и радовалась ему от души; для детей перемена — счастье.
Накануне отъезда Пьер Дюран занялся пропиской своего паспорта. Это удалось ему легче, нежели он думал; он приехал с матерью, женой, тележкой и лошадью и пять дней спустя уезжал с женой, матерью, тележкой и лошадью — против этого ничего нельзя было сказать; хотели прибавить в паспорте ребенка, но опасались возбудить подозрение муниципалитета и, по зрелом соображении, решили не упоминать о нем.
Читать дальше