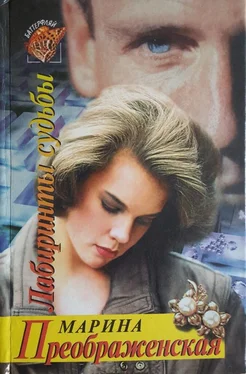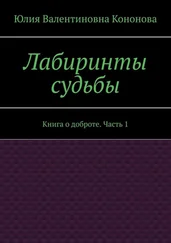Предшествовало всему короткое вступительное слово с пояснениями и ремарками, потом звонок в дверь, и, когда ничего не подозревающий Кирилл гостеприимно распахнул дверь, сюжет стал развиваться так интенсивно, с таким напором динамичного потока интонационных перепадов, подкрепленных вполне конкретно физической динамикой, что Кире ничего не оставалось, как ретироваться в глубь помещения, увлекая за собой всех поклонников самодеятельного спектакля.
Большего унижения я в своей жизни не испытывала.
На следующее утро мать повела меня к гинекологу, где в изумлении обнаружила, что вела войну с ветряной мельницей. Для меня это был шок, для нее — повод для новой вспышки гнева и яростного желания отстоять право на неподсудность своих действий.
Перестав взывать к моему благоразумию и девической порядочности, она перешла в наступление.
— Ты специально издевалась надо мной! Специально! Ты выставила меня на посрамление перед людьми.
Я пыталась оправдываться, но те редкие слова, которые мне удавалось вставить, вызывали в матери еще большее кипение негодования.
— Но почему ты не сказала, что между вами ничего не было! Тебе без позора жить скучно?
Мне надоело оправдываться.
— А почему ты решила, что ничего не было?
— Но врач… — затормозила мать, вопросительно взглянув на меня.
— Что врач? Что он знает, этот твой врач?
— Он же видит… — осеклась мать. — Или не так?
— Нет, мамочка, не так! Он ничего-ошеньки не видит!
— Так, значит, не в постели?.. — Она вновь закипала. — Я его посажу! Посажу кобеля драного! За развращение!!! Малолетних! Так и передай, пусть адвоката ищет.
— Адвоката… В постели, не в постели… Какая ты примитивная! — Я тяжело вздохнула и отвернулась от нее. — Главное, чтоб в постели не было? — Я резко повернулась к ней и со злостью крикнула: — Не было! Ничего не было! Врач твой знает про это, а что в душе было, он знает?
— Ирочка! При чем здесь это? — Перепады настроения матери поражали и бесили меня своей неожиданной сменой.
— Конечно! Конечно!! При чем здесь душа?! Главное, чтоб простынка чистая, а душа, она — что? Так! Тонкие материи, кто их видит? Их, по-твоему, и в грязь можно, и в дерьмо!
— Ирочка… — Мать приблизилась ко мне, пытаясь взять меня за руку.
— Только простынку отстираешь, откипятишь — и она беленькая. А душу как? Как душу? — Я заплакала и уже сквозь слезы непонятно к чему приплела: — Говоришь, свекровь сало гноила? С голоду дохли… Как же ты…
— Ирочка!
Ну вот и все. Мать обрела подтверждение моей девственности и окончательно потеряла меня.
Вечером я не вернулась домой, но и к Кириллу пойти не посмела. Просидела всю ночь на вокзале в полутемном зале ожидания и рыдала крокодильими слезами.
Утром я забралась в первую электричку и укатила невесть куда. На одной из станций, не выдержав очень уж пристального взгляда и въедливых расспросов участливого попутчика, я, неожиданно для себя, быстро поднялась с сиденья и выбежала в тамбур.
Двери уже с шипением закрывались, но я, извернувшись, выскользнула на платформу. Прямо от платформы в глубь леса скатывалась с пригорка вьющаяся тропинка. Выбора не было, и оставалось, проваливаясь по колено в снег и путаясь в отяжелевших полах промокшего пальто, идти по редким, неявным следам предшественника-аборигена.
Мне все казалось, что вот сейчас выскочит из-за угрюмых елей голодная волчья стая, и клочья моей одежды разнесет ветер, кровь заметет поземка, а кости растащут лисы, и только душа моя останется нетронутой и светлой дымкой вознесется к небу.
Было жалко себя неимоверно, и от явственности воображаемого исхода я вновь зашлась в плаче.
Но волков не было, утро входило в свои права, и на горизонте показалась заснеженная, богом забытая гуцульская деревушка.
— Здравствуйте, — обратилась я к первой встреченной мною женщине.
— Здрастуйтэ.
— Я могла бы здесь у кого-нибудь остановиться?
— Та хоч у нас.
— У меня нет денег.
— А шо — деньги? Как надо остановиться, так просим до хаты. Побудь, поживи, как надо… Миша! Гэй, Миша, до нас гостья! Иды до хаты, а я подою в хлеву.
Миша, кряжистый, сухощавый, чернолицый дедок гостье не удивился. Словно то и дело шастают по горам в городских обновах заплаканные девки.
Он поставил на стол самогону, нарезал толстыми ломтями хлеб, выложил на блюдо обожженной глины квашеную капусту и рядом поставил два граненых стакана.
— О…О! Расстарався! Дивчина ж ще. Прячь горилку, гэть! На, доця, це молочко.
Читать дальше