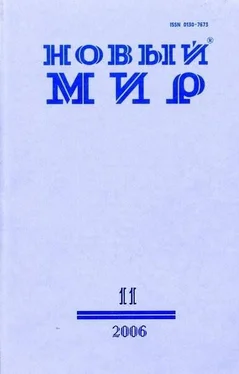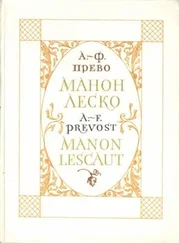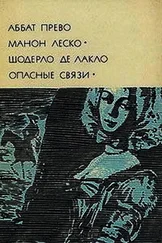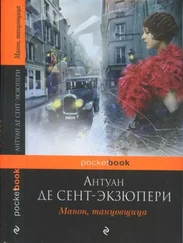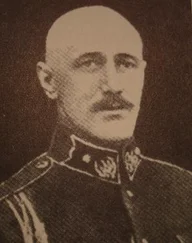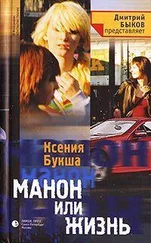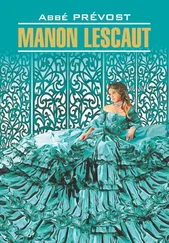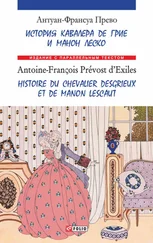Едва ли не таким же значимым, как художническая среда, становится для Вс. Н. Петрова круг М. А. Кузмина, где он появился в 1933 году и почти сразу стал постоянным посетителем10. Воспоминания «Калиостро» поразительно достоверно передают атмосферу кузминского быта и бытия и являются одним из немногих источников, свидетельствующих о последних годах жизни поэта11. Еще один мир 30-х годов был в то время таким же важным для него. Художница О. Н. Гильдебрандт (Арбенина), жена Ю. И. Юркуна, в 1938 году познакомила Вс. Н. Петрова с Хармсом. В своих воспоминаниях он писал: «Мне выпала судьба стать последним другом Хармса». И пояснял: последним в ряду последовательно сменявших друг друга ближайших друзей Хармса в 20-30-е годы — А. Введенского, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, Я. С. Друскина, дружба с которыми продолжалась, но без прежнего накала сердечной близости. Воспоминания о Хармсе остались недописанными, но они вполне завершены в написанной части12. Мемуарную прозу Вс. Н. Петрова, как и его искусствоведческую, отличают несомненные художественные достоинства. Дело не только в строгом, почти ритмически выверенном стиле. Ей присуще еще одно качество, которое сам он отметил в воспоминаниях своего учителя: «Литературное дарование Н. Н. Пунина проявилось наиболее ярко в его замечательной, к сожалению, неоконченной мемуарной книге «Искусство и революция». Он начал писать ее в 30-х годах; тогда только что вышла в свет «Охранная грамота» Бориса Пастернака, а незадолго был напечатан «Шум времени» О. Мандельштама. В советской литературе рождался новый жанр мемуарного повествования, пронизанного философской мыслью и наполненного живым и острым ощущением истории. Н. Н. Пунин высоко ценил обе названные книги; они служили ему как бы критерием художественности, какой он сам стремился достигнуть в своих мемуарах. Сохранившиеся главы «Искусства и революции», нимало не напоминая по стилю ни «Охранную грамоту», ни «Шум времени», не уступают им по литературному качеству»13. Можно думать, что того же качества Вс. Н. Петров сознательно добивался и достигал его в своих мемуарах. Но это же качество присуще и его большой прозе. В 30-е годы он начал писать (отчасти под влиянием Хармса и Кузмина) короткие рассказы, а сразу после войны, вернувшись с фронта (где он был с августа 1941-го по конец войны), написал повесть «Турдейская Манон Леско», которую позже изредка читал вслух друзьям и знакомым.
Повесть печатается по правленой машинописи (частное собрание), с уточнениями по автографу (ИРЛИ, ф. 809). В машинописи имеется ряд пропусков, автором не восстановленных, — от мелких фрагментов и отдельных фраз до целых абзацев (например, окончание XXI главы — «У меня был издавна какой-то смутный образ Марии-Антуанетты<���…>и разрешаются в романтизме»): скорее всего, автор вычитывал и правил позднейшую машинописную копию, но не сверял ее с рукописью. Отсутствующие в машинописи фрагменты текста восстанавливаются по автографу.
Н. Николаев, Вл. Эрль.
Публикация М. В. Петровой. Подготовка текста Вл. Эрля. Послесловие Н. Николаева, Вл. Эрля
Серебров А.И. Н.Н. Петров. М., 1972.
Петров В. Н. Очерки и исследования. Избранные статьи о русском искусстве XVIII–XX веков. М., 1978, стр. 8.
Петров В. Н. Фонтанный Дом. — «Наше наследие», 1988, № 4, стр. 103–108; то же (отрывки) — «Воспоминания об Анне Ахматовой». М., 1991, стр. 219–226.
Петров В. Н. Из «Книги воспоминаний». — «Панорама искусств», 1980, стр. 129–142.
Петров В. Н. Владимир Васильевич Лебедев. 1891–1967. Л., 1967. Л., 1972.
Петров В. Н. Михаил Иванович Козловский. М., 1977.
Петров В. Н. «Мир искусства». М., 1975.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу