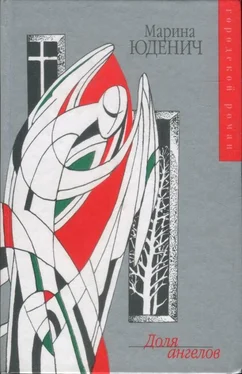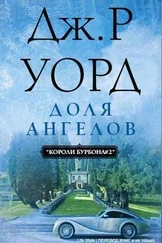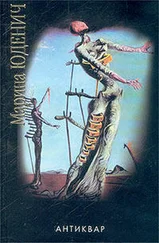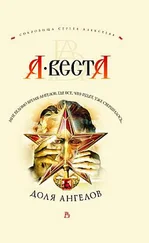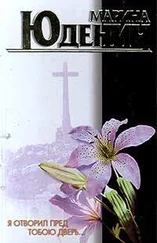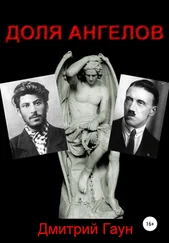И я, показавшаяся в первый миг точной копией Вивы в молодости — даже оторопь взяла и похолодело в груди.
К тому же выпавшая из окна, но пока — или на сей раз? — живая.
Все сплелось.
Антон утверждал: именно это сплетение — обманчивым видением, призраком погибшей дочери — поманило профессора, едва прослышал про девушку, умиравшую в приемном покое, а после увидел меня.
Оно же — пускай лишь первое время — направляло его действия.
Когда — неожиданно для всех — велел немедленно готовить операционную: транспортировке мое несчастное тело не подлежало.
Собирал в ночи свою операционную бригаду.
И до рассвета — шесть с половиной часов — бился за мою жизнь, шаг за шагом, стежок за стежком, отвоевывая ее у вечной своей соперницы — смерти.
Так думал Антон.
А мне — повторюсь — не хочется верить.
Да и какая, в конце концов, разница — что двигало доктором в первые минуты нашего одностороннего знакомства и после, когда без малого год выхаживал меня в своей прославленной клинике, заново обучая всему — дышать, двигаться, жить?
Вполне возможно, прав Антон — окружающие в один голос утверждали: профессор носится со мной, как с дочерью.
Еще бы!
Тот год, что я провела на больничной койке, Антон жил в доме Надебаидзе.
Как зять. Нас «расписали» прямо в палате, и, надо сказать, на этом настоял Антон. Он полностью вжился в роль, к тому же понимал — такой жест по достоинству оценят доктор и Вива.
Они оценили. С Антоном носились едва ли не так же, как со мной.
Стоит напомнить: в те далекие годы в имперской жизни все решали отнюдь не способности человека, не талант и даже не деньги.
Связи.
Надо ли говорить — у профессора Надебаидзе их было более чем достаточно.
Иначе не видать Антону подготовительного отделения МГУ, а позже — юридического факультета, как своих ушей.
Впрочем, пока я заново училась жить, для нас было сделано много больше.
Московская прописка, а позже — когда пришло мне время покинуть клинику — отдельная квартира на Чистых прудах, с видом на зеркальную гладь водоема, утопающего в зелени бульвара, с неимоверно высокими потолками, большими светлыми комнатами и просторной кухней.
В ордере было указано: «…свободна, за выездом жильцов». Что в переводе с кондового конторского означало: прежние жильцы почему-то покинули свой дом. Солидный чин из Моссовета, виртуозно исполнивший неимоверный — по тем временам — кульбит: вселение двух безродных голодранцев в двухкомнатную квартиру в центре, успокоил. С бывшими — все в порядке.
И даже рискованно пошутил: «Возможно, лучше, чем у нас с вами»
Семья, занимавшая прежде квартиру, уехала на историческую родину.
А квартира осталась.
Мебель, посуду, постельное белье мы покупали вместе с Вивой.
Вернее, покупала Вива, вдобавок заботливо интересовалась: нравится ли мне, придется ли по вкусу Антону?
И разумеется, снова задействованы были связи, связи, связи… Страна который год продиралась сквозь эпоху тотального дефицита.
Позже, когда квартира была обставлена, Антон исправно посещал занятия на подготовительном отделении, а меня — на профессорской машине — ежедневно возили в клинику, на занятия лечебной физкультурой и массаж, доктор озадачился следующей проблемой:
— На будущий год ты тоже пойдешь учиться. Только — прошу по дружбе — не надо ВГИКа, ГИТИСа, короче, всяких актерских штучек. Договорились?
— Я и не собираюсь.
— А куда собираешься?
— В медицинский.
— Вот как? И чем же — в медицине — мы собираемся заниматься?
— Хирургией. Ортопедической.
Он долго молчал, внимательно смотрел на меня.
И — мрачнел, в темных глазах плескалась печаль.
Удивительное дело, но я — несмышленыш — осознала в тот миг, откуда его печаль.
Доктор понял: я выбрала медицину всерьез, на самом деле, не потому вовсе, что благодаря его необъятным связям все дороги будут открыты.
Потому что хочу — как он или вслед за ним…
Словом, знаю: за мной — неоплатный долг, возвратить который следует не ему, доктору Надебаидзе, — другим, неизвестным пока людям, которых еще только караулит беда. В будущем. Возможно — далеком.
Но вышло иначе.
— Нельзя тебе в нашу хирургию, девочка.
— Почему — нельзя?
— Потому. Спинку твою я починил, как смог. Ходить, бегать, плавать и вообще жить ты будешь. Нормально жить. Слышишь? Но стоять у стола по десять часов тебе противопоказано. Ясно? До тридцати ты этого не поймешь. А после придется уходить из профессии. Тридцать — тридцать пять — самый творческий возраст. Зачем заранее программировать проблемы? Медицина — бескрайнее море. Терапия, психиатрия, стоматология… Хоть гинекология. Пожалуйста! Хорошая, кстати, профессия для женщины.
Читать дальше