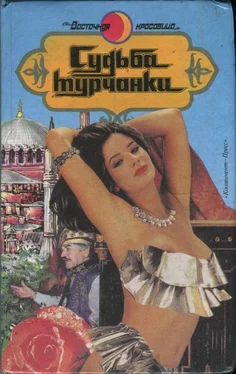Я не имею права надолго задерживаться в этом городе. Я должен ехать. Меня так и подмывает совершить последний в моей жизни авантюрный нелепый поступок — изорвать в клочки документы и махнуть пешком куда-нибудь по Франции. Дойти до Марселя пешком. Или до Бреста. В сущности, разве я знаю Францию? Только Париж. И не тот холодный сегодняшний, нет, совсем другой Париж.
Конечно, я не решусь на такую авантюру. А ведь вот когда-то я сказал себе, что буду странствовать по Германии, подобно средневековому студенту, из одного университета в другой. И ведь это осуществилось. Впрочем, тогда мои документы были несколько иными, чем сейчас, и давали мне полное право переезжать из города в город и даже свободно бродить по стране. И я был молод и здоров. А сейчас…
Я был молод и Париж был молод — город начала века. И век был молод — век двадцатый. И авто на мостовых Парижа были редкостью, а конные экипажи — обыденностью. А Лувр… А Версаль… А цветы на улицах… И женщины, и фиалки… Мой Париж — Париж Ренуара и Мане и стиля «либерти»… И ничего этого никогда больше не будет — ни того Парижа, ни тех женщин, ни моей юности — ничто не повторится. Какая вечно новая банальность — ничто не повторится.
Турецкий юноша. Дома, в Истанбульском доме, его тетки скрывают лица под яшамаками — тонкими покрывалами. Он свободно говорит на трех европейских языках — на немецком, на французском, на английском. Соломенную шляпу — канотье — он чуть сдвигает на лоб — так делает отец с феской — движение почти инстинктивное. У молодого человека волосы каштановые, сам он белолицый, а брови — темные. И маленькие, аккуратно подстриженные усы. Этот молодой человек — я. Кто я? Тогда я принадлежал некоему всемирному парижскому братству интеллигентов. На застланной персидским ковром кушетке в ателье художника-француза я сидел рядом с экстравагантной русской поэтессой. Что-то говорил испанец-журналист, сотрудник парижской газеты. И немец, один из первых учеников Штайнера, развивал натурфилософские теории. Или теософские? Мне было все равно. Мне нравилось слушать, и смотреть, и дышать, и видеть милые молодые лица. И встречать доброжелательные дружеские взгляды молодых глаз.
Нас всех обманули. Молодых всегда обманывают. Кто? История? Природа? Оказалось, что юность преходяща, а новый век ничуть не лучше предыдущих — тоскливое одиночество, жесткость, непонимание.
Стук в дверь возвращает меня к моей сегодняшней действительности. Нет, это нельзя назвать стуком. Скорее деликатное постукивание. Но меня охватывает страх. Я мгновенно осознаю, что высылка из Германии и приезд на родину, где меня никто не ждет, это еще не самый худший вариант. А если меня решили убить, убрать? Если это будет обставлено как этакое случайное убийство? Или что-то не так в документах и меня посадят в тюрьму. Я моментально ощущаю свой возраст — отяжелевшее тело, ревматические колени, близорукие глаза, в дурную погоду все колет, ломит, ноет. Боже, как хороша свободная жизнь — читать Виктора Маргерита и прихлебывать кофе. Я люблю удовольствия подобного рода. Я трус. Я хочу жить. Я не герой, я бедный литератор; возможно, далекий потомок эллина Архилоха, поэта, бросившего щит на поле битвы и спасшегося бегством для того, чтобы продолжать писать стихи.
Но, кажется, я уже начинаю иронизировать. Что-то мне подсказывает, что это тихое, даже робкое постукивание ничего общего не имеет с угрозой таинственной насильственной смерти или с перспективой тюремного заключения.
Я приподымаю голову, опираюсь на локти, стаскиваю с постели свое несчастное шестидесятилетнее тело и, шаркая ревматическими ступнями, обутыми в разношенные туфли, плетусь по весьма сомнительной чистоты паркету к двери. Там, за дверью, уже услышали мои шаги и постукивание замерло.
Открываю дверь. На пороге молодой человек, в легком, не по сезону, пальто. Шляпу он уже снял и держит в руке. Лицо довольно славное, но ничем не примечательное. Я не успел спросить, что ему нужно. Он посмотрел на меня с некоторым разочарованием и недоверием. Мне становится неловко. Мне жаль, что я разочаровал этого незнакомого юношу. Мне становится смешно. Но тут у меня возникает сакраментальная мысль: «А вдруг это читатель?» Читатель, поклонник творчества. Мне смешно, потому что я знаю, что это не так. Это не читатель. Не мой читатель, во всяком случае. Я собираюсь пригласить его войти.
Незнакомец чуть подается вперед. Я делаю протестующий жест, помешавший ему смять фетровую шляпу, которую он держит в руке. Наверное, это ошибка. Он перепутал комнаты. На самом деле ему нужен вовсе не я, а кто-то другой.
Читать дальше