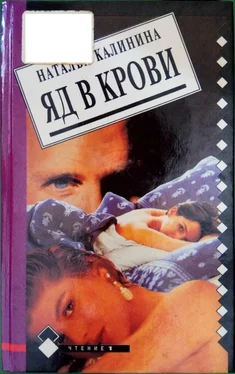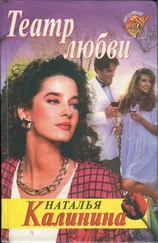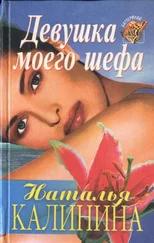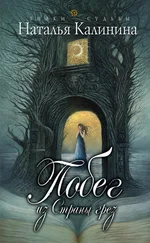Иван резко вскочил и, схватившись за голову, громко вскрикнул.
— Что с тобой, мой хороший?
— Голова… — прошептал он, падая на подушку. — Очень болит голова. Дайте пожалуйста таблетку, и я пойду ее искать.
Устинья бросилась на кухню за водой — анальгин, слава Богу, оказался в кармане ее брюк. Лемешевых уже не было. «Ушли, наверное, — думала она, возвращаясь в спальню со стаканом воды. — Это хорошо, что они ушли…»
Иван проглотил три таблетки сразу и попросил еще воды. Подавая ему большую глиняную кружку, Устинья сказала, не удержавшись от вздоха:
— Вот ты, оказывается, какой. Большой, красивый… А я почему-то представляла тебя другим. Как я не догадалась тогда, когда Маша привезла тебя к нам на дачу, что ты…
— Так это были вы. А я еще подумал: откуда мне знакомо ваше лицо? Вот, оказывается, откуда. Но мне пора — она всегда возвращается ночью, а сейчас уже утро.
Морщась от боли, он попытался встать, но Устинья взяла его за руку и сказала:
— Никуда ты не пойдешь. Ее нет уже трое суток. Маша наверняка успела заявить в милицию.
— Маша — это ваша дочь? — поинтересовался Иван. — Но она… она напоминает мне… Нет, это бред какой-то…
— Маша ее дочь. Только, прошу тебя, не спрашивай больше ни о чем — я потом сама тебе все расскажу.
И Устинья разрыдалась.
Узнав об исчезновении Маши, Николай Петрович почему-то не очень испугался — не верилось ему, что с ней может что-то случиться. «Наверное, поругалась с этим шалопаем и сбежала от него, — думал он. — И правильно сделала. Больше будет ценить». Он и в мыслях не допускал, что Маша может бросить Диму навсегда. Ну, во-первых, до сих пор они жили как два голубка, а во-вторых… Этот второй довод Николай Петрович даже мысленно никогда не формулировал словами. Павловский представлял реальную опасность для всей его семьи, включая и его, Николая Петровича.
Теперь же, когда Маша благополучно объявилась, и он сломя голову бросился за ней среди ночи к знакомому дому, душу вдруг наполнила неосознанная тревога. И вот они сидят в его домашнем кабинете, и дочь рассказывает ему обо всем случившемся высоким дрожащим голосом, а он чувствует, как на голове начинают шевелиться волосы. Теперь даже Павловский не сможет помочь — та квартира стала настоящим эпицентром надвигающегося землетрясения, грозящего разрушить годами отлаженную жизнь его семейства.
— В милицию? — переспросил Николай Петрович. — Зачем же обращаться в милицию? По-моему, следует позвонить твоему свекру. Он знает, что нужно делать в подобных случаях.
— Я боюсь его, — прошептала Маша. — Он бы предпочел видеть маму мертвой. Скажи, а ты тоже?
— Что за глупости. — Николай Петрович встал с дивана, засунул в карманы руки и глянул в темную глубину двора. — Я никогда не желал ей зла. Я всегда…
— Знаю, вы с Устиньей ей помогали. Папа…
Он обернулся и посмотрел на высокую худенькую девочку с большими глазами и бледным узким лицом. Она сейчас была похожа на его бывшую жену — такой Маша-большая была во время войны, когда он увидел ее впервые в госпитале. Невольно дрогнуло и заныло сердце.
— Да, моя… несравненная.
— Ты… ты обещаешь мне, что вы с ней… ничего не сделаете?
— Но ты же понимаешь… — начал было Николай Петрович.
— Нет, ты просто пообещай мне, что вы с ней ничего не сделаете. Отпустите на волю, чтобы она могла снова жить так, как хочет.
— Но ведь Иван… Ян…
— Это их дело, а не наше. Ян уже взрослый человек. Ах, папочка, знал бы ты, как я рада, что он нашелся. Ты тоже рад, правда?
— Наверное, — не сразу ответил Николай Петрович. — Да, я очень рад. За Устинью. Она заслужила это.
— Папа, поклянись. И тогда мы позвоним Василию Вячеславовичу. Или лучше давай поедем к нему и все как есть расскажем. Прямо сейчас. — Она вскочила с тахты и, подбежав к Николаю Петровичу, обхватила за плечи и прижалась всем телом. — Я так верю тебе, папа. Ты для меня опора в этом зыбком мире. Надежная опора. Знал бы ты, как мне порой бывает тяжело…
В машине она сказала вдруг повеселевшим голосом:
— Завтра же съезжу к Диме в больницу. Не думаю, что у него это серьезно. У всех у нас рано или поздно случается нервный срыв. Но мы с тобой очень сильные и надежные, правда, папа?
Ван Гог больно схватил Машу за руку и выволок на середину комнаты. Она была в одних чулках — туфли слетели еще когда она прыгала на кровати-батуте. В подошвы впились острые осколки хрусталя. Но Маше сейчас больше всего на свете нужна была боль, ибо сообщала ей уверенность в том, что она все еще здесь, в одном измерении с Алеко. Ей было страшно попадать в другое измерение потому, что там, она знача, не могло быть Алеко.
Читать дальше