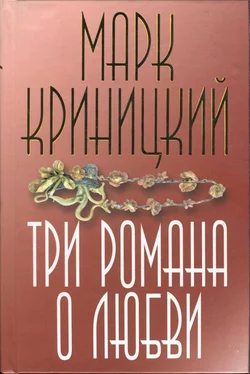— Она останется жива.
И тогда из белого, бесформенного обрубка, в который вновь обратили голову, раздался дикий, нечленораздельный вопль. Руки сделали движение подняться, но не смогли. Сиделка бросилась к одру.
Отвернувшись, врачи один за другим покинули комнату.
Петровский прочел телеграмму:
«Сегодня утром Раиса облита серной кислотой. Положение опасно. Лишена зрения. Передайте вашей жене, что мне хорошо известно имя авторши гнусного злодеяния. Илья Ткаченко».
Ему показалось, что пол уходит из-под ног. И вдруг он почувствовал, что кричит, пронзительно, весь трясясь:
— Убийца! Гадина!
Хотелось бежать к жене, чтобы кричать и топать на нее ногами… Может быть, даже вышвырнуть ее вон. Точно сразу упали последние покровы, и он увидел истинную, ужасную и омерзительную сущность этой женщины.
— На каторгу! — кричал он, задыхаясь и ничего не видя от бешеных слез.
И сквозь отчаяние и ужас жалости к Раисе вдруг выступило гнусное торжество. Поймал себя на этом и, ища какой-нибудь опоры, закружился по комнате.
Ясно знал:
— Это ты! Только ты… Не смей возражать… Ничтожество, слизняк! Только ты виноват во всем этом, только ты!
Старался понять, как это сделалось возможным. Но разве же не он потакал чудовищным склонностям этой женщины? Разве не он взрастил эту надутую сознанием своих незыблемых прав сверхъестественную ревность? Теперь он хочет бежать и топать ногами, кричать на эту дегенератку, которая таскает в своем объемистом брюхе плод, зачатый от него. И он даже рад, что все закончилось преступлением. Не хочет ли он, может быть, таким путем купить себе свободу? О, негодяй! Это — я, я преступник.
Он бегал с исковерканным лицом и плакал тонким голосом. Потом остановился. Не мог поверить. Раиса! Рая! Вдруг захотелось вернуть минувшие дни. О, с каким восторгом он бросил бы все, бросил бы даже детей и уехал с нею, с нею прежнею, куда-нибудь… все равно… в Ташкент… и далее… с нею…
Отнял от лица трясущиеся ладони. Старался уяснить себе действительность, которая не укладывалась в мозг. Ведь надо же все-таки что-нибудь делать… Всегда, во всех случаях жизни, почему-то надо что-то делать. Какая гадость! С отвращением отшвыривает от себя термометр, который зачем-то попал ему в руки. Блестящими шариками покатилась по полу ртуть. Хотелось собственными руками похватать все предметы со стола и в бешенстве пошвырять их в окна, на пол. Уничтожить всю эту пошлую, надутую обстановку…
Быстро открылась дверь. Кутаясь в длинную константинопольскую багряную шаль, вошла Варюша.
— Что ты здесь сумасшествуешь? — спросила она, недовольно глядя на него.
А, она всегда и более всего хотела, чтобы он был спокоен! Он внимательно, в последний раз, оглядел ее всю. Она находила для себя возможным продолжать жить. Было что-то неизъяснимо-страшное и отвратительное в тупом наклоне ее головы, низкого лба, густо обросшего волосами, начинавшимися чуть ли не от бровей, в ряде белоснежных блеснувших верхних зубов. Широким концом отливавшей радужными тонами шали с бахромой она старалась скрыть безобразный живот.
Как врач, он скорее профессиональным инстинктом понимал, что должен сдержаться.
— Уйди! — сказал он, отступая от нее за письменный стол, взял для чего-то в руки массивное пресс-папье и, задыхаясь, повторил; — Уйди!
Она стояла не двигаясь. Только лицо ее сразу пожелтело, и страшно раскрылся рот. Руками она схватилась за виски, и концы шали, упав и разойдясь, выдвинули еще больше бесформенную груду живота.
— Что ты? Что ты? — говорила она, и его обостренный взгляд видел, что она потерялась.
— А, значит, это ты? — завизжал он, продолжая трястись.
И вдруг захотелось не щадить ни ее, ни того, кто в ней.
Наклонив темя с отчетливым пробором расчесанных на две половины волос и точно подставляя его для удара, она пошла прямо на него. И ладонями она в малодушном страхе затыкала уши от его крика и слов.
— Васючок… Васючок!.. — услышал он. — О, Васючок, мне страшно!.. Что случилось, Васючок? Не отталкивай меня… Мне кажется, что произошло что-то бесконечно-страшное, Васючок…
Близко-близко от себя он увидел ее неподвижный, без мысли, без выражения, мертво-покорный взгляд.
— Васючок… Васючок… — шептали ее губы.
— Прочь! — визжал он. — Ты знаешь сама… Прочь!
Она грузно и вместе быстро опустилась перед ним сначала на одно, потом на другое колено, и внизу, как в бездне, колыхалась ее наклонившаяся, молчаливая фигура. Потом она опять подняла лицо. По нему текли слезы.
Читать дальше