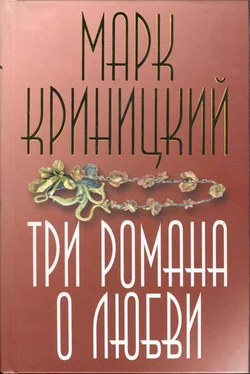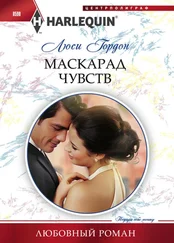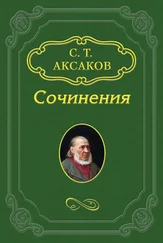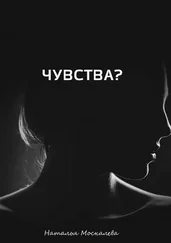Боржевский выразительно вытаращил глаза.
— А почему? Такую позицию современная женщина заняла. Вне контроля-с.
Он помолчал.
— Я не против семьи и семейной жизни, как господин Прозоровский. У них такая идея-фикс, чтобы всех женщин собрать и запереть в публичном доме. Так ведь это у них от размягчения мозга. Суть дела не в том. Упала вера, утрачена религиозность. Вот в чем суть. Прежде женщина хоть в Бога верила и над ней был духовный контроль. Хоть поповский, а все-таки контроль. Теперь же она ни во что не верит. Разве это возможно-с? Что вы! Ведь это же разврат.
Он недовольно надулся, точно во всем был виноват Иван Андреевич.
— Да она вам без узды все на свете разнесет. Потому что — стихия. Смейтесь, смейтесь, а когда-нибудь вспомните мое слово. Вот ударились теперь в этот развод: тут разводятся, там разводятся, в каждом доме, почитай, развод. Вот помощник присяжного поверенного Гусев разводится, акцизный контролер Рябчиков разводится. Уж на что моя благоверная, и та кричит: «Разведусь с тобой! Ты стар!» Упадок нравов, религию забыли. Оттого и все беды. И еще не то будет, вот увидите. Теперь поглядите: семейная жизнь падает. В крупных центрах посмотрите, что газеты пишут: на каждые четыре женщины — три проститутки. А мы — финансовый вопрос, единение народов! Вот вам и единение народов.
Он так расходился, что долго не мог успокоиться.
— А, впрочем, это так, к слову. Желаю вам счастия и всякого благополучия. Конечно, все, что я сказал, не относится к Лидии Петровне. Девица отменная, умная и, главное, с тактом. А это — редкость.
Лицо его было смешное, в красных пятнах.
— Помогай Бог. Исключение не делает правила. Час добрый.
Наконец, он распростился и ушел. И по его уходе осталось впечатление чего-то удушающего, неопрятного. Хотелось открыть форточку, вымыть руки.
Но внутри была большая радость: завтра он увидит Серафиму.
Утром, трепещущий, Дурнев взбирался по лестнице гостиницы.
— Вам кого? — окликнул его рябой швейцар, вышедший из каморки.
Лицо у него было, как у всех швейцаров, злое, скучное.
Но Иван Андреевич только махнул на него нетерпеливо рукою.
— Уехали, — сказал тот раздраженно-весело.
Но Иван Андреевич не понял его и шел.
— Говорят же вам: уехали! — крикнул тот уже грубо.
— Кто? Вы кому говорите?
— Вам. Барыня уехали ночью.
Иван Андреевич все еще ничего не понимал. Ему показалось только, что коридор сузился и бесконечно вытянулся в длину.
— Из номера девятого? — спросил он, все еще думая, что швейцар ошибся.
— Из номера девятого.
— Этого не может быть, — сказал Иван Андреевич и пошел.
— Как вам будет угодно.
Действительно, девятый номер был открыт, и из него выходила горничная с ведром и щеткой.
Иван Андреевич в страхе смотрел на нее. Она поставила ведро и протянула ему что-то голубое. Подвязка Шуры.
Он схватил ее. Да, уехали.
— Барин, что с вами?
На него глядели близко-близко два темных, внимательных женских глаза.
— Али не предупредили вас? Вот грех-то! Может, куда поблизости, не надолго?
— Не видать, — сказал голос швейцара. — Торопились на экспрец. Уехали, — прибавил он со вздохом. — Ну, поворачивайся: семнадцатый звонит.
Она ушла Иван Андреевич снова поднес к глазам голубую подвязку. Ему все еще казалось, что этого не может быть.
Почему? Что такое произошло?
Он вошел для чего-то в опустевший номер и присел на подоконник. Вот покатая крыша, по которой гуляли голуби. И казалось, что сейчас приподнимется драпировка, и Серафима выйдет из-за ширм, внимательная, строгая, порывистая.
— Только вот разве на экспрец не поспели, — сказал швейцар от двери. — Тогда им ехать в одиннадцать двадцать.
Он побежал к выходу. Как жестоко! За что?
День был мутно-бледный, холодный, и от этого ему странно показалось, что они, наверное, уже уехали.
Если бы он пришел к ней вчера же вечером, она бы поняла. О, ведь это же так несомненно.
Над крышей вокзала стояли клубы белого пара.
— Поезд подан, — сказал извозчик.
В дверях входящая толпа, картонки, чемоданы, бляхи носильщиков.
Врезывается на момент измятое, желтое лицо Юрасова.
— Вы куда?
— Голубчик, потом.
Группа знакомых дам. Лицо Клавденьки Юрасовой. Она кланяется небрежным кивком головы и провожает долгим, внимательным взглядом.
На платформе гулкая, сжатая пустота: публика уже в поезде. Тесный, блестящий ряд вагонов.
Шура, наверное, у окна. Он бежит вдоль. Натыкается на офицера в обтянутых рейтузах с гремящею саблею. Тот оживленно говорит с барышней в широком шелковом белом манто. Глаза у него принимают зверский вид. Но у барышни сочувственно-страдающее лицо.
Читать дальше